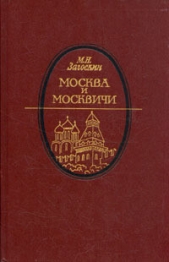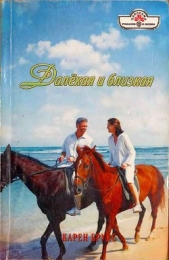Первопрестольная: далекая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1
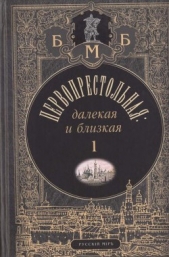
Первопрестольная: далекая и близкая. Москва и москвичи в прозе русской эмиграции. Т. 1 читать книгу онлайн
Первое в России издание, посвящённое «московской теме» в прозе русских эмигрантов. Разнообразные сочинения — романы, повести, рассказы и т. д. — воссоздают неповторимый литературный «образ» Москвы, который возник в Зарубежной России.
В первом томе сборника помещены произведения видных прозаиков — Ремизова, Наживина, Лукаша, Осоргина и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В терему Елены, за тяжёлым дубовым столом, под образами, сидел сын её Дмитрий с наставником своим дьяком Ивашкой Максимовым. Елена вышивала что-то на пяльцах у окна. Дьяку было под шестьдесят, но никто его иначе как Ивашкой не звал: старый ерник — он был из школы архимандрита Зосимы, но поперчистее — не внушал уважения никому и нисколько к этому и не стремился. Он был небольшого роста, худой, с дрянной бородёнкой и плутоватыми глазами. Дмитрий был больше похож на отца, чем на мать, от которой у него были только глаза: большие, дерзкие, полные бесенят. Он всё ещё пыхтел над хитрым искусством грамоты. Уроки эти, впрочем, часто прерывались долгими рассуждениями дьяка с красавицей княгиней, которой этот московский Макиавелли [97] преподавал мудрость жизни с большой пользой для толковой ученицы и для себя: она любила старого похабника и щедро дарила его. Он слыл в Москве нововером, но был только невер и своё неверие часто преподносил ей под очень весёлым соусом.
— Ну, чти! — склоняясь с указкой к старому, толстому Псалтирю, сказал он. — Вот отсюда валяй…
— «Бла-жен… муж… — затянул Дмитрий скучливо, — иже… не иде… на совет… нечестивых…»
— Правильно… — одобрил дьяк. — Но, — поднял он кверху корявый палец с грязным ногтем. — Но ещё надобно разобрать, кого именно разумеет тут псалмопевец дивный под советом нечестивых, ибо сие одни понимают так, а другие — инако… Многие безумцы дерзают, например, относить к совету нечестивых преблаженного пастыря нашего архимандрита Зосиму и иже с ним, но поелику на нём почиет благодать Божия, то…
Дверь вдруг распахнулась, и в горницу выглянуло миловидное, розовое, как наливное яблочко, лицо сенной девушки, в глазах которой стоял священный ужас.
— Великий государь! — чуть дохнула она и сейчас же исчезла.
По лестнице уже слышалась знакомая медлительная поступь. Дьяк, испуганно сжавшись в комочек, крестился мелкими крестиками. Дмитрий тоже оробел. И на пороге встала величественная фигура Ивана. Он был бледен, и больше обычного горели его страшные глаза.
— Здорово, батюшка, — низко склонилась пред ним от пяльцев Елена.
Дмитрий и дьяк молча отвесили владыке глубокий поклон. Иван, почти не глядя, погладил внука по голове и строго погрозил пальцем сжавшемуся дьяку, о художествах которого он был достаточно наслышан.
— Мне с тобой, Олёнушка, поговорить надо… — сказал он и чрез плечо бросил коротко: — А вы пока идите… И чтобы у дверей не торчал никто! — строго повысил он голос.
Они остались вдвоём. Елена поняла, что пришла решительная минута. Это так и было: Иван протерзался о ней всю ночь без сна и решил так ли, эдак ли с наваждением этим покончить. Они молча стояли один перед другим, высокие, величавые, красивые и готовые к схватке. Он невольно отметил, что на шее у неё его новгородский гостинец, владычное ожерелье из голубых алмазов.
— Я думаю, нам нечего тратить зряшных слов, Олёнушка, — сдерживая дрожь страсти, проговорил, наконец, Иван. — Ты не дура у меня, да и я кое-что смекаю.
— Понимаю, батюшка… — своим певучим голосом начала было она, но оборвала: «батюшка» вышло тут не совсем у места. — Можно и без лишних слов: мы не робята. Я знаю, чего ты хочешь… — смело подняла она на него свои сияющие, чёрные глаза. — И я не прочь. Ну только так… баловать… я не согласна… Ежели ты от меня многого требуешь, то много и дай мне…
— Говори, чего ты хочешь…
— Изволь… — выпрямилась она и зарумянилась, и ещё ярче просияли ее несравненные глаза. — Перво-наперво ты отправишь свою грекиню хошь к грекам её, хошь в монастырь куда, хошь в Москву-реку, мне всё едино…
— Бешеная! — покачал головой Иван, невольно любуясь ею. — Ну?
— И я стану на её место законной супругой твоей…
Он засмеялся.
— Ты в уме?
— В уме… Я сказала тебе, что цена моя не малая, а ты и до половины дойти не успел, а уж испугался!
— А закон?
— Я не дьяк законы-то разбирать… — насмешливо проговорила она. — Закон… А попы на что? Повели митрополиту, чтобы было ему видение какое поскладнее, что вот, мол, Владычица повелела так и эдак, а то пущай икона какая объявится с рукописанием древним, что отныне будут, мол, в этом деле новые порядки. Они там придумают…
— Ты просто рехнулась, Олёнушка! Ну, Софью я удалю, ладно, но…
— Не на торгу мы, торговаться-то… — играя его ожерельем, сказала она. — Нельзя? Почему? У нас даже и кровного родства нет. Вон фрязин твой Аристотель сказывал, что их вышний латинский поп Лександр, что ли, так тот открыто со своей родной дочерью живёт да к ней же, вишь, присмолились и два родных братца её, сыновья поповы, а все верные за великую благодать почитают сапог его поцеловать. А ты только на словах дерз. Тому и видения никакого не надобно: смел — и съел, а мелочь-то пущай стоит да облизывается… А потом…
— Ну, ну… — не сводя с неё глаз, говорил он. — Ну?
— А потом… — чуть задохнулась она. — А потом ты снимешь золотой кафтан этот, в котором и повернуться нельзя, сядешь на коня боевого и, поднявши Русь, пойдёшь. И я с тобой.
— Куды?
— Всюду… Я знаю, что и сидя в палатах твоих, ты умеешь раздвигать рубежи Руси, как никто, но это дело долгое, а зачем время золотое терять? Мы сметём с тобой Литву, сметём ляхов, риторей, и пусть будет вся Русь под твоей рукой, от Карпат до студёного моря. А потом, когда силушки у тебя будет вдосталь, мы Менгли-Гирею, дружку твоему, шею свернём. А потом повернём, может, на восход солнца, а может, и на запад, как Александр-царь ходил, — недавно дьяк мой гоже мне про него сказывал, — или как великие ханы ходили… Я хочу, — она опять чуть задохнулась, ослеплённая огневыми видениями своими, — чтобы ты от края и до края земли один владыкой был, а я чтобы была — владычицей твоей… Вот!
В сумасшествии своём она была нестерпимо прекрасна… Но годы брали своё.
— Одно скажу: рехнулась ты, Олёнушка!
— Какое диво в теремах ваших рехнуться! — усмехнулась она. — Перепел в клетке живёт и пощёлкивает, и чиж живёт, и соловей, а соколу тесно.
— Ну, и соколов сидит у меня в клетках не мало.
— И пущай их сидят… А я сидеть не хочу… Хочешь меня — я твоя, но дай мне то, чего ни одна до меня не имела. А сорвётся — не беда: лучше сгореть в бою, чем гнить по-вашему. Вот тебе весь и сказ мой…
И, гордо закинув голову, она глядела на него сияющими глазами. Высокая грудь её волновалась, и голубые алмазы, как звёзды, искрились на ней…
— Я не мальчишка голоусый… — проговорил Иван. — И мне…
— А я не хочу рассуждать ни о чём… — дерзко оборвала она. — Повторяю тебе: я — твоя, но, первое дело, убери грекиню с отродьем её, второе — посади меня рядом с собой на трон золотой, а третье — на коня и вперёд.
Она была ослепительна. Но он в самом деле не был уже мальчишкой голоусым. И он, волнуясь, долго молчал.
— А если я так тебя, бешеную, возьму?.. — проговорил он.
Быстрым движением из-под тёмно-малиновой душегреи, горностаем опушённой, она вынула небольшой золотой кинжал.
— А попробуй!
Он впился глазами в кинжал.
— То кинжал князя Василья Патрикеева!.. — дрожа от бешенства, проговорил он. — Откуда он у тебя? Значит, правда, что про вас с ним болтали?
— Что было, то быльем поросло, — зло рассмеялась она. — Я с тебя про жён твоих не спрашиваю.
— Отчего же ты с него не требовала трона золотого да вселенной? — насмешливо проговорил Иван.
— А это уж с кого что, — усмехнулась она. — Князь Василий не раскусил меня. Если бы он слушал меня, то…
— То?
— …То, может, ты тут и не стоял бы, батюшка… — рассмеялась она. — Князь Василий себе ни в чём не верит. Иной раз словно и тому не верит, что он, Василий Патрикеев, правнук Гедимина…
Ивана жгло как на костре, но и с костра он не мог не любоваться ею.
— А если я скажу, что ты… мужа отравила, и тебя, по нашему обычаю, живьём в землю зароют?
— Я мужа отравила? — весело рассмеялась Елена. — Ты лучше грекиню свою спроси, кто моего мужа отравил: может, она лучше тебя это знает. Москву спроси. А зароешь — всё одно тебе ничего не достанется. Да нет: на такую игру ты не пойдёшь! Вон поп римский, от него можно бы ждать и такого, а ты… рассчитывать больно любишь…