Среди мифов и рифов
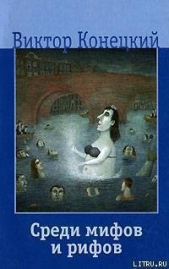
Среди мифов и рифов читать книгу онлайн
Путевая проза Виктора Конецкого составляет роман-странствие «За доброй надеждой». «Среди мифов и рифов» — вторая книга этого сложного многопланового произведения.
«Среди мифов и рифов» — одна из самых весёлых и лиричных книг Виктора Конецкого. Когда она впервые вышла в 1972 году, ею зачитывалась вся страна. Теперь «Среди мифов и рифов» по праву занимает место среди классических произведений русской маринистики.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В первом случае мы с чистой совестью лжём ближнему иногда даже целые века. И только во втором случае мы вообще не лжём. Итак, чтобы существовать без лжи, нам необходимо любить абсолютно всех ближних. Но мы точно знаем, что такое невозможно.
Значит, ложь есть полная и абсолютная необходимость? Нет!
Вот здесь-то мы и обнаруживаем самое удивительное! Оказывается, что за тысячелетия лжи, как основы основ нашего существования, мы так и не смогли полностью адаптироваться к ней! Человек не способен лгать вечно, чёрт бы его, человека, побрал! В какой-то момент мы вдруг ляпаем: «Эй! Ты! Болван нечёсаный! Иди помойся! И перестань чавкать, осёл!..» И ведь знаем, что этот «болван нечёсаный» нам дорого станет, но не можем мы лишить себя такого удовольствия: хоть на миг перестать лгать и выстрелить из себя то, что на самом деле чувствуем.
И вот гигант самообмана и воли, требовательный воспитатель всеобщей любви, создатель даже новой религии, художественный гений — Лев Николаевич — ничего с собой поделать не может, кричит на весь мир и космос, что жена Софья Андреевна — старая ведьма, и бежит от неё в белый свет, как в копеечку, и умирает на полустанке. Вот ведь какой анекдот! И твёрдо, неколебимо понимаем, что лживое терпение — основа общения и мира. И в то же время не испытываем большего наслаждения, нежели при врезании ближнему прямо между глаз правды-матки. Оказывается, и мы и камень одинаково должны расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении; оказывается, ненависть к привычному притворству и лжи так же органична для нас, как и для мёртвой природы.
Но, ляпнув правду, мы обрекаем себя на смерть в чужой постели на чужом полустанке и на одиночество, в котором существовать не можем. И чтобы прорвать круг одиночества, мы просим у потного, чавкающего мерзавца прощения, ибо Бог терпел и нам велел.
Больше всего меня интересует с этой точки зрения судьба будущих космоплавателей.
Космонавт обязан наблюдать самого себя и с беспощадной правдивостью облекать в слова и докладывать на Землю своё психическое, моральное состояние и мысли, эмоции, сведения о своём стуле и мечтах. Если космонавт будет лгать, он или погибнет раньше срока, или Земля поймает его на преднамеренной лжи и отзовёт. Описать своё душевное состояние — задача безмерно трудная и для профессионального психолога. Но психолог живёт на Земле, он плывёт в океане различной лжи уже тысячелетия. А космонавт находится там, где лжи нет и никогда не было, — в космосе. За время полёта к далёким планетам люди будут привыкать к бесстрашной правдивости. Какие ужасные трудности ждут их по возвращении домой!..
Звёзды, мигая нам из Вселенной, говорят, что рано или поздно нам всем всегда придётся говорить только правду.
Иначе мы погибнем. Но можно ли хотя бы теоретически представить всеобщую правдивость? И что получится, если все мы начнём говорить друг другу только то, что на самом деле думаем и чувствуем?
Не знаю, что получится.
Но надо пытаться множить юмор на утопию. Это помогает жить самому. И следует забавлять рассказами мир, даже если он свесит ножки в яму. Этим принесёшь миру пускай относительную, но пользу.
Однако для тех, кто не любит улыбаться, хочу сказать, что существеннейшей стороной правильного понимания искусства слова является владение мерой его условности. В литературе периодически возникает стремление обратиться к ненормализованному и странному с привычной точки зрения стилю и жанру. Это «странное» играет революционизирующую роль в становлении новой художественной формы. (Горький, например, вспоминал, как после посещения спектакля в лондонском мюзик-холле, где Владимир Ильич много смеялся, у них возник разговор об эксцентризме. Ленин говорил тогда о приёме показа алогизма обычного, примелькавшегося, заштамповавшегося с помощью выворачивания его наизнанку, намеренного искажения.)
Если сейчас я напишу: «Сатирическое и скептическое отношение к штампу есть черта всех великих, и потому я её в себе восторженно приветствую» — то вполне может найтись читатель, который подумает: «Как ему не стыдно! Он причисляет себя к великим!» Это произойдёт потому, что читатель не заметил сигнала, который я ему подал, когда перешёл на фантасмагорически-ироническую интонацию, то есть начал заниматься эксцентризмом. Где точно этот сигнал находится и как предупреждает о том, что дальнейшее сообщение будет передаваться на особом языке, объяснить невозможно. Но сигнал-знак есть, и он характеризует различные степени условности и произвольности связей между понятиями при обычном их употреблении вне литературы и тем их значением, которые они приобретают внутри художественной системы, то есть книги, рассказа, главы, абзаца. Если сигнал-знак читатель уловил, то он улыбнётся над тем, как я зачислил себя в великие. Если уловить сигнал ему не дано, то он вполне может отправить в газету письмо о том, что автор кощунственно панибратствует с величайшими гениями человечества. И такие упрёки в адрес моего друга Ниточкина случались. И потому — для незначительной страховки — я и снабжаю его рассказы настоящим примечанием. Считайте это примечание тем таинственным сигналом, который теперь прошёл сквозь каскадный усилитель, и не принимайте ничего буквально — дядя шутит!
Выход на мокрую орбиту
Кильский канал.
15 июня вышли из Ленинграда. Белой тихой ночью снялись на Канарские острова. Впереди долгие месяцы рейса.
Делами я обменялся с третьим штурманом. Он взял на себя финансы, я — штурманские приборы и навигационные пособия. Работы у меня больше, но она мне приятнее.
В Хольтенау купили снабжение. Я забил ящики в каюте канцелярскими принадлежностями.
Скользим по девять миль над Шлезвиг-Голштинией. Встречные суда всех флагов. Расходимся в трёх-четырёх метрах. Особенное ощущение скорости от близости других судов и берегов. Никогда ещё так близко от берега на морских судах я не ходил. На Босфоре дальше.
Земля Гитлера. И забыть об этом невозможно.
Поднялся на пеленгаторный мостик, бинокль на грудь повесил.
Вечер. Лето. Чистота. Мир. Уют. Коровы. Лошади. Мальчишки визжат на огромной высоте мостов, разглядывая нутро наших труб. Коровы и лошади породистые, чёрно-белые, тучные. Мальчишки тоже тучные.
Луга такие зелёные, как на детских рисунках, когда кажется, что, чем больше набрал краски на кисть, тем зеленее получится. Тишина вечерней земли. Запах трав. Закатное солнце. Едва заметный парок от холодеющей воды. Стайки маленьких птиц скользят над холмами. Сирень цветёт.
И от близости земной природы, её летнего, мягкого покоя такая обида вдруг поднимается на себя. Проклинаешь неумение жить на прекрасной земле, которую так любишь — в каждом дереве, цветке, лошади…
Берёзы, как у нас. Тополя, как у нас. Тихие рыболовы, как у нас. Овсы проплывают совсем рядом. Овсы чистые, нет и в помине васильков и колокольчиков. А мне без сорняков овсы не овсы.
Несёт в детское, в Даймище и Батово. Беготня с копьём, парное молоко, довоенная детская безоблачность. Родные вспоминаются. Грусть недавнего отхода. Она скоро выветрится. Всё притрётся. Потом превратится в скуку. Потом в ожидание возвращения…
Опять огромный мост впереди над каналом, и кажется, наши мачты заденут его. Чёрно-жёлто-красный флаг ФРГ, бело-синий вымпел Академии наук СССР, бело-красный лоцманский флаг вплывают в тень моста. И тревожная перекрученность космических антенн, и аншлаги у их подножий: «Не подходить!»
Куда меня опять несёт? Впереди такая долгая дорога, какой я, пожалуй, боюсь. А зачем? Уже столько видел и за всё виденное платил такой дорогой ценой, что пора бы научиться человеческой жизни хоть на шестипенсовик. Тоскливые мысли бродят в голове. Минута душевной невзгоды без особых причин. Плохо, когда ты ушёл в рейс и сразу опять видишь летнюю землю и беззаботных людей в красивых машинах, и лебедь плывёт рядом, подруга за ним, соревнуются с нами, поглядывают на судно, быстрее и быстрее перебирают лапками, тянут по ходу шеи.

























