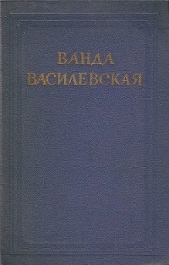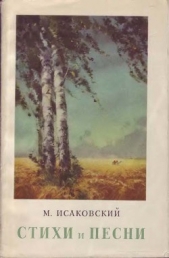Реки горят
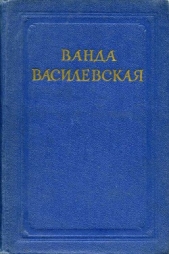
Реки горят читать книгу онлайн
Роман «Реки горят» охватывает огромные исторические события 1941–1945 годов. Становится все ощутимей зависимость каждого человека от решения великих общих вопросов. Судьба отдельных людей с очевидностью выступает, как часть общей судьбы отдельных народов и всего человечества. Ванда Василевская изображает в этом романе сложный и трудный процесс изменения политического сознания людей различных слоев старого польского общества, процесс превращения этих людей в строителей и граждан новой, народно-демократической Польши.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Но, может быть, я еще и потому могу теперь вспоминать об этом спокойно, Петр, — думалось Ядвиге под напев девушек, — может, еще и потому, что я ведь уже не люблю тебя. И хоть нет у меня обиды на тебя, хоть я знаю, что ты был прав, но нет у меня к тебе и любви. Все кончилось. Кто знает? Может, я могла бы встретить тебя сейчас — и сердце даже не забилось бы сильнее. Поздоровалась бы с тобой спокойно, как со знакомым прежних лет, — только и всего…»
…На сцену вышла казашка. Она колыхалась в своем длинном платье, как тростинка. Лицо смуглое, слегка плоское, темные косы до колен. Госпожа Жулавская так и впилась в нее глазами. Вот она — та, которая, быть может, через час зарежет всех, у кого нет таких кос до колен, нет такого смуглого широкого лица с огромными черными глазами.
Внезапно зазвенели бубны, защебетали свирели. Что за дикая музыка! Именно чего-то в этом роде и ожидала «полковница». Интересно, как будет вопить эта дикарка.
Но тут весь зал вздрогнул. Казалось, зазвучал какой-то неведомый инструмент. Что это — стеклянная флейта, серебряная струна, рассыпающая вокруг алмазные искры? Что она поет? Ведь это знакомые, много раз слышанные слова. Песня о родине, о широкой родной стране, равной которой нет в мире. Но в устах этой девушки песня стала совсем иной, не похожей на себя, словно бы освобожденной от всего земного. Звуки были легче ветра и чище соловьиной песни, они наполнили зал хрустальным звоном. Конечно, поет по-русски. Всех их здесь русифицировали, — цепляется Жулавская за эту мысль, как утопающий за соломинку. «Нет, это немыслимо, невозможно поверить, чтобы в дикой стране, среди дикарей происходило такое, — лихорадочно думает «полковница». — Здесь, должно быть, какой-то обман, какое-то мошенничество. Ведь не может же быть — девка из колхоза, да еще из казахского колхоза!..»
Последний хрустальный звук вспорхнул к темным доскам потолка и долго дрожал там прозрачным, серебристым лучом.
Вскочила Ядвига, поднялся весь зал, благодаря эту девушку за ее песню дружными аплодисментами. Она улыбалась тихо и смущенно и кланялась восточным поклоном, прижимая скрещенные руки к груди. Еще и еще песня. Теперь она поет по-казахски, рассказывая сперва по-русски содержание. Но в этом нет никакой надобности — могучее волшебство изумительного голоса пленяет сердца, до краев наполняет сладостным волнением. Певицу долго не отпускают со сцены, за нее приходится вступиться Павлу Алексеевичу: ведь так можно и замучить человека. Певица спускается с эстрады и садится в публике, как раз рядом с Жулавской.
Еще пение, танцы, декламация. Концерт затянулся до поздней ночи.
«Наверно, у каждого человека, — думается Ядвиге, — откуда бы он ни был родом, есть две родины: одна — та, где он родился, и та, лучше которой нет на свете. Эта страна дала матери право радоваться рождению своего ребенка, она дала человеку право радоваться своему труду, а этой казахской девушке, которая еще недавно была рабыней, которую продавали и покупали, дала свободу и возможность радовать людей своим голосом».
Павел Алексеевич горячо спорил где-то в сторонке с Канабеком. И тотчас стало известно, что девушка поедет в Алма-Ату, в консерваторию.
— Через несколько лет она будет гордостью всего Казахстана, всего Советского Союза, — говорил Павел Алексеевич.
Побежденный Канабек только вздыхал:
— Эх, ты бы только посмотрела, как она рис сажает!
Небо сверкало в звездной вьюге, серебристое и синее, мерцающее, неправдоподобное небо юга. Госпожа Жулавская куталась в шаль. Она уже оправилась от первого смущения и, возвращаясь к своему обычному состоянию, презрительно оттопыривала губы. Ну да, консерватория! Вздор и ложь! Какие в этой глуши могут быть консерватории? Да и вообще, что за вздор все эти планы… «Через несколько лет», — сказал этот директор. Будто немцы не прут на Кавказ, а здесь не подготовляется восстание! Через несколько лет… Нет, не через несколько лет, а гораздо раньше сюда придут либо немцы, либо англичане и наведут порядок. Не поможет и твой голосок, милая, придется тебе вернуться на свое место — к свиньям, коровам, к навозу. Шутка сказать — «гордость всей страны». И кто? Девка, скотница… Это у них называется культурой! Нет, сами москали никогда не были культурными людьми, а что уж говорить о таких дикарях, как эти казахи? Были они кочующим диким племенем, таким и должны остаться.
— Ядвися, — тихо сказала Матрена, — я не пойду домой, пойду в больницу. Что-то мне кажется, что… началось.
Ядвига обняла ее:
— Я пойду с тобой, провожу тебя.
— Да ведь поздно?
— Ах нет, мне совсем не хочется спать. Такая ночь чудесная, и этот концерт…
— Знаешь, Ядвися, что я думаю? Я вот все сына хотела, Василия. А если родится девочка, я ее назову, как тебя, — Ядвися.
— Да ведь у вас нет такого имени?
— Нет — так будет! Польское имя. Ты ведь согласишься?
Узкий арык лепетал, бил о берег мелкой волной, брызгая на свесившиеся кусты тысячами серебряных искр. Мерцала, переливалась ночь на высоком небе. Где-то далеко во мраке спал невидимый сейчас Тянь-Шань. Оттуда, с юга, доносились мягкие, теплые дуновения, нежно касающиеся лица.
Слезы выступили на глазах Ядвиги.
— Соглашусь ли я? Родная моя, родная! Если бы ты только знала…
— Что знала?
Но Ядвига не ответила. Разве можно было сказать то, что она чувствовала? Для этого не было слов, она лишь ощущала это всем существом, каждым биением сердца.
— А я думаю, что у тебя будет сын, как ты хотела.
— Может быть. Говорят, в войну все больше мальчики родятся. Но знаешь ли, что сын, что дочь, все одно — радость.
«Где ты, мой сынок, маленький, крохотный сыночек, которого я не умела любить? Какой ветер веет сейчас над далеким кладбищем, которого мне, пожалуй, и не найти теперь? Я покинула тебя там, в сыпучих песках, в бесплодной земле, — выросла ли на твоей могилке хоть травинка какая? Зачем, зачем тебе суждено было умереть? Бегал бы сейчас над арыком, собирал бы весной тюльпаны, знал бы по имени всех ягнят… И была бы у тебя другая мать — лучше, умнее, чем та, что была тогда, чем та, что допустила тебя умереть, потому что ничего не знала, ничего не понимала…»
Над землей стояло необычайное, ошеломляющее изобилием звезд южное небо.
Возвращаясь домой, Ядвига увидела свет в окне госпожи Жулавской.
— Так поздно не спит? — мимоходом удивилась она.
Этот огонек, один-единственный в веренице темных, спящих домов, производил странное впечатление какой-то мелкой, пустой тревоги среди глубокого, великого покоя. Где-то далеко крикнула птица.
«Скоро рассвет», — подумала Ядвига, входя в комнату тихонько, чтобы не разбудить Олеся и госпожу Роек.
Глава VIII
Уполномоченный посольства, бывший полицейский унтер Лужняк, волновался, и его дурное настроение отражалось на всех его подчиненных, сильно возросших в числе за последнее время. Панна Владя, его личная секретарша, поправляя тщательно уложенные локоны, тяжело вздыхала:
— Ничем не угодишь… Теперь вдруг начал придираться, что я плохо печатаю на машинке. Да что я, машинистка, что ли? Раньше ничего не говорил, а теперь придирается к каждой опечатке да еще сердится, что медленно пишу… А сам диктовать не умеет, то и дело ошибается, как же мне писать? Так и бросила бы все…
— А что ж, за это время вы и вправду могли бы научиться печатать получше, — не без ехидства заметила госпожа Пшиходская, особа тощая, засушенная, как мумия, и вечно озлобленная: вследствие полного отсутствия у нее женской привлекательности ей при дележке тряпья всегда доставались худшие вещи.
— Учиться? На что мне это? Вы думаете, я намерена стать машинисткой! Еще чего не хватало!..
— Панна Владислава! — раздалось из соседней комнаты. Она поспешно встала, глянула по привычке в зеркальце и, шурша плиссированной шелковой юбкой, пошла в кабинет.
— Еще и жалуется, — заметила Пшиходская. — Уж кому-кому, а ей-то, кажется, жаловаться не на что.