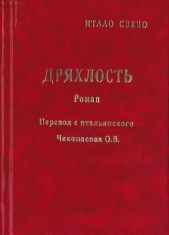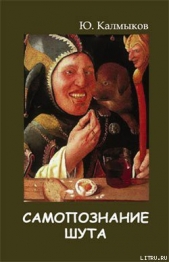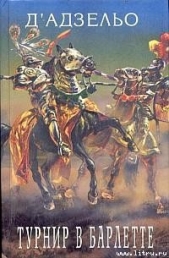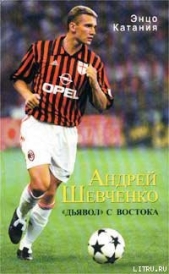Самопознание Дзено

Самопознание Дзено читать книгу онлайн
Один из восемнадцати детей коммерсанта Франческо Шмица, писатель принадлежал от рождения к миру австро-итальянской буржуазии Триеста, столь ярко изображенной в «Самопознании Дзено». Он воспринимался именно как мир, а не мирок; его горизонты казались чрезвычайно широкими благодаря широте торговых связей международного порта; в нем чтились традиции деловой предприимчивости, коммерческой добропорядочности, солидности… Это был тот самый мир, который Стефан Цвейг назвал в своих воспоминаниях «миром надежности», мир, где идеалом был «солидный — любимое слово тех времен — предприниматель с независимым капиталом», «ни разу не видевший своего имени на векселе или долговом обязательстве» и в гроссбухах своего банка всегда «ставивший его только в графе „приход"», что и составляло «гордость всей его жизни».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бот я пытаюсь анализировать ее здоровье, и из этого ничего не выходит, потому что я замечаю, что этот анализ превращает ее здоровье в болезнь. И во мне даже рождается сомнение: а уж не нуждалось ли это здоровье в лечении или просвещении? Но за все те годы, что я прожил с ней рядом, такое сомнение не возникло у меня ни разу.
А какое значение придавалось мне в этом ее маленьком мирке! Я должен был высказывать свою волю по любому поводу — касалось ли это выбора блюд, одежды, общества или круга чтения. Я принужден был развивать бешеную деятельность, и это меня не раздражало. Вместе с ней я работал над созданием патриархальной семьи и сам становился тем самым патриархом, которых всегда так ненавидел и которые теперь казались мне чуть ли не символом здоровья. Ведь это совсем разные вещи — быть самому патриархом или оказывать почести кому-то другому, претендующему на это почетное звание. Я жаждал обрести здоровье, оставив болезни всем не патриархам, и порой — особенно часто это бывало во время нашего путешествия — даже не без охоты напускал на себя торжественный вид конной статуи.
Во время этого путешествия мне не всегда легко было следовать предложенному мне примеру. Аугуста желала осмотреть все — словно наше путешествие преследовало образовательные цели. Мало того, что мы были в Палаццо Питти, нам надо еще было обойти все его бесчисленные залы и по крайней мере на минутку задержаться перед каждым произведением искусства. Я отказался двинуться дальше первого зала и взял на себя единственный труд: придумать предлог, оправдывающий мою лень. Проведя полдня перед портретами основателей дома Медичи, я открыл, что они были похожи на Карнеги и Вандербильда. Невероятно! А ведь они были моей расы! Аугуста не разделяла моего изумления. Она точно знала, что такое yankee, [18] но не совсем точно — что такое я.
Правда, вскоре не выдержало и ее здоровье, и ей пришлось отказаться от музеев. Я рассказал ей, что однажды в Лувре, очутившись среди множества произведений искусства, я пришел в такую ярость, что чуть не разнес на куски Венеру. Аугуста примирительно заметила:
— Ну и тем лучше, что с музеями людям приходится сталкиваться только во время свадебного путешествия и больше уже никогда.
Жизни и в самом деле не хватает монотонности музеев. Бывают дни, достойные того, чтобы их заключили в рамку, но они полны звуков, которые этому мешают, а потом, кроме цвета и линий, в них еще есть настоящий свет, тот, который жжется и никогда не наскучивает.
Здоровье побуждает человека к деятельности и заставляет его взваливать на себя массу хлопот. Когда было покончено с музеями, начались покупки. Аугуста знала нашу виллу — хотя никогда там не жила — куда лучше меня: ей было известно, что в одной комнате не хватает зеркала, в другой — ковра, а в третьей есть место для небольшой статуи. Она накупила мебели на целую гостиную и из каждого города, в котором мы останавливались, была отправлена по крайней мере одна посылка. Мне казалось, что было бы и разумнее и удобнее сделать все. эти приобретения в Триесте. Ведь так нам приходилось думать о пересылке, о страховке, о таможенных операциях.
— Разве ты не знаешь, что товары должны путешествовать? Ведь ты же коммерсант! — смеялась Аугуста.
Она была почти права. Но я возразил:
— Товары путешествуют только в тех случаях, когда их хотят продать и заработать. Если же не преследовать этой цели, нечего беспокоить ни себя, ни их.
Но предприимчивость была одним из тех качеств, которые я больше всего в ней любил. Она была прелестна, эта наивная предприимчивость. Наивная, потому что нужно совершенно не знать истории, чтобы на основании одной только покупки прийти к выводу о выгодности всей операции: судить о том, насколько она была выгодна, можно только при продаже.
Мне казалось, что я выздоравливаю. Мои раны уже не так кровоточили. Я был в ту пору неизменно весел. Можно было подумать, что в те незабываемые дни я взял на себя перед Аугустой обязательство быть веселым! Надо сказать, что в таком случае она была единственная, чьего доверия я не обманул — разве лишь на какие-то короткие мгновения, когда жизни удавалось меня пересмеять. Наши отношения как были, так и остались улыбающимися, потому что я всегда посмеивался над ней, считая, что она этого не видит, а она — надо мной, ибо приписывала мне большую ученость и множество заблуждений, которые надеялась постепенно рассеять. Я старался выглядеть веселым даже тогда, когда меня снова скрутила болезнь. Таким веселым, словно то была не боль, а щекотка.
В течение нашего долгого путешествия по Италии я, несмотря на свое вновь обретенное здоровье, не сумел избежать и некоторых неприятностей. Мы уехали, не взяв с собой рекомендательных писем, и у меня часто бывало ощущение, будто среди окружавших нас незнакомцев находится множество врагов. Этот страх был смешон, но я ничего не мог с собой поделать. Любой мог пристать ко мне, оскорбить или — того хуже — оклеветать, и вступиться за меня было некому!
Однажды я пережил настоящий приступ этого страха, но его, по счастью, никто, даже Аугуста, не заметил. Я имел обыкновение покупать все газеты, которые предлагали мне на улице. И вот когда я однажды остановился перед газетным прилавком, мне вдруг пришло в голову, что продавец просто по злобе может арестовать меня как вора, потому что купил я у него только одну газету, а под мышкой держал множество других, купленных в другом месте и даже еще не развернутых. И я ударился в бегство, а за мной побежала Аугуста, которой я никак не объяснил причину такой торопливости.
Я подружился только с извозчиком и гидом, в обществе которых я мог по крайней мере не бояться, что меня обвинят в глупых кражах.
Между мной и извозчиком было даже кое-что общее. Он очень любил вина Кастелли и сказал мне, что из-за этого у него время от времени опухают ноги. В таких случаях он ложился в больницу и, подлечившись, выходил оттуда, напутствуемый советами отказаться от спиртного. И он давал себе обещание не пить, именуя его железным, ибо материализовал его в узле, который завязывал на металлической цепочке своих часов. Но когда я с ним познакомился, цепочка свободно болталась на его жилете, без всяких узлов. Я звал его с собой в Триест. Я описывал ему вкус нашего вина, столь непохожего на местное, чтобы убедить его в том, что жестокий курс лечения будет иметь и там точно такой же исход. Но он и слышать об этом не хотел и отказался, хотя при этом на лице его проступила ясно видимая печать сожаления.
К гиду же я привязался потому, что он показался мне значительно ученее своих коллег. Не трудно знать историю лучше меня, но даже Аугуста с ее дотошностью и с ее бедекером [19] не раз подтверждала точность сообщаемых им сведений. К тому же он был молод и по улицам, уставленным статуями, бегал бегом.
Когда я потерял этих двух друзей, мы уехали из Рима. Извозчик, получив от меня крупную сумму, доказал, что порой вино бросается ему и в голову, и врезался вместе с нами в какое-то весьма прочное древнеримское строение. Гид же в один прекрасный день вздумал уверять нас в том, что древним римлянам было прекрасно известно электричество и они им широко пользовались. И он продекламировал какие-то латинские стихи, которые должны были нас в этом убедить.
Но тут меня одолела еще одна, не очень, правда, серьезная болезнь, от которой мне уже не суждено было излечиться. В общем-то пустяк: просто страх, страх старости и, главное, страх смерти. Я думаю, эта болезнь родилась из особой формы ревности. Я знал, что, пока я жив, Аугуста, конечно, мне не изменит. Но я представлял себе, что едва я умру, и меня похоронят, и позаботятся о том, чтобы могила содержалась в порядке и чтобы в церкви отслужили все необходимые службы, как она тут же оглядится и выберет мне преемника, которого поселит в том же здоровом и размеренном мире, которым сейчас наслаждался я. Ведь не погибать же ее великолепному здоровью только оттого, что умер я! Я был исполнен такой веры в это здоровье, что мне казалось, будто погибнуть оно может только в том случае, если в него на полном ходу врежется целый железнодорожный состав.