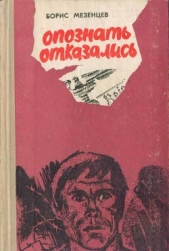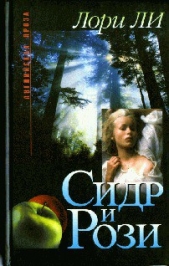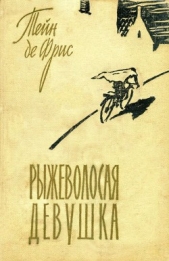Сидр для бедняков

Сидр для бедняков читать книгу онлайн
«Малая проза» — повесть и рассказ — жанр, наиболее популярный в современной нидерландской литературе. Повести, включенные в настоящий сборник, принадлежат перу писателей разных поколений, от маститой Хеллы Хассе до дебютанта Франса Келлендонка. Объединяет их углубленный интерес к нравственной проблематике, активное неприятие многих черт сегодняшней буржуазной Голландии, духовного убожества, мещанской приземленности и эгоизма ее обывателей. Написанные в различной тональности, различной манере, повести дают представление как о жизни в стране, так и о характере нидерландской прозы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я тебя совсем не вижу.
Я поцеловал ее, и она не противилась.
Ей нравилось все во мне, и главное — мои мысли о городе, об одиночестве: о предназначении. И она верила мне. Но все-таки подметила, как невелик шанс — среди миллионов других людей, — что именно я смогу стать учителем этих людей. Я в свою очередь подсчитал, сколь ничтожна вероятность ее существования.
— И все-таки я существую, — сказала она.
Регина стояла, прислонившись к дереву, — волосы распущены, как на картине. Я боготворил ее.
Что во мне привлекало ее? Об этом думать нельзя, но я думал. Я знал это. «Я так неуверена во всем». Как часто она повторяла эту фразу. Я отвечал, что нельзя быть уверенным в том, что не является частью тебя. Но не это главное. Она была не уверена именно в себе и чувствовала себя виноватой. Я говорил, что никому нет дела до ее вины, пока эта вина не начнет изменять ее самое (не сделает ее другим человеком). Регина должна быть такой же, как я, — для меня это было очевидно, и я повсюду водил ее за собой.
Мы бродили с ней у канала, и я показывал ей места, где бывал. Мы останавливались на мосту и смотрели в поля, а я глядел в поля ее глаз.
— Ты королева, — говорил я.
Она смеялась:
— Хоть раз побуду королевой.
Я пытался убедить ее, что она самая необыкновенная девушка на свете.
— Другой такой нет.
Я уже любил ее. Но был очень наивен во всем, что касалось ее души.
— Ты должна прийти ночью на дамбу и постоять здесь, — говорил я.
Это ночное стояние исцелило меня от чего-то и сделало сильным. Она заливалась смехом. Но я считал, что каждый устроен, как я, и каждый должен знать наши луга наизусть. Это тоже было одной из причин моей нетерпимости.
Однажды я сказал ей, что пора бы официально представить меня ее родителям. Это произошло в воскресенье, через две недели после нашего знакомства. Я рассказал родителям, где работаю. Чтобы у них не возникло ни тени сомнения, будто я недоволен физическим трудом (а я и был недоволен), я не сказал, что собираюсь уйти с работы.
— Я работаю в «Громако», сверлю железки.
Регина изо всех сил подчеркивала, что я готовлюсь к государственным экзаменам.
Мы сидели рядышком на диване и слушали пластинку — песни Шуберта. Я сказал, что люблю маршевую музыку.
— Музыку, — сказал я, — под которую можно ходить, маршировать.
Я не отрицал, что у каждого человека свой вкус, но вместе с тем непременно хотел убедить присутствующих в своем пристрастии к маршевой музыке. Потом мы пошли в церковь.
Я был в прекрасном, настроении, прямо на седьмом небе. Я воображал себя градоправителем, а Регину своей ближайшей помощницей. Облеченный этим высоким саном, я и вступил под своды небольшого здания из розового кирпича, указуя Регине — она знала дорогу — путь наверх. Мы поднялись на галерею, и — о боже! — я увидел там людей, о существовании которых думать забыл. На галерее маленькой приходской церкви я снова встретился с ними — мальчишками и девчонками моей юности; за это время они нисколько не изменились. Из года в год каждое воскресенье неизбежное посещение церкви, причем два раза, — и хоть бы на волосок в них что-то изменилось. Все та же скука, все то же оживление при звуках упавшей на пол монеты: девчонки наклоняют головы, жмурятся, задыхаясь от немого смеха, — как далеко это от меня. Позади годы учебы, наблюдения — сначала за растениями и птицами, потом изучение самого себя, мои годы Фомы Кемпийского, меблированные комнаты, сны, моя действительность, мои пасхальные праздники и троицын день, моя печаль, мой нигилизм, мой уход из школы, смутное ожидание чего-то, моя ирония — со всем этим багажом я очутился на галерее реформатской церкви с человеком, которого называл своей любимой. Пастор воздел руки и сильным, звучным голосом возблагодарил господа. Раздались первые звуки псалма. Прихожане стояли, выпрямившись, подняв головы. «Блажен, кто с непорочною душой…» Здесь не было места сомнениям, здесь каждому уготовано место на небесах. Никогда еще я не чувствовал себя так одиноко.
После службы я поспешил выбраться на улицу, увлекая за собой Регину. Идти к ней домой не хотелось. Шел дождь, но я не прятался от него.
— Что с тобой?
Я молчал. А потом потребовал от нее «невозможного». Регина заплакала, но я остался непреклонен. Это была наша первая размолвка.
Через два дня мы встретились после работы. Я уже переоделся, и мы пошли в кино. «Люди осудили ее». Я обнял Регину за плечи, она опять была ласкова, и ко мне тоже вернулась прежняя непринужденность, мы снова стали тем, чем были на самом деле — двумя детьми. Я проводил ее домой, и мы еще постояли у двери, оживленно разговаривая, вот тут-то, словно черная тень, на мгновение затмившая свет, и прозвучали ее слова, что я жестокий. Жестокий?
— Я не совсем тебя понимаю, — сказал я. — Что ты имеешь в виду? — Должно быть, я странно на нее посмотрел, потому что она отступила назад и неуверенно оглянулась. — Что ты имеешь в виду под жестокостью? — повторил я.
— Нужно ли это объяснять? — сказала она. — Хочешь знать, что о тебе говорят?
— Что же? — спросил я.
Но она молчала. Не проронила больше ни слова, и у меня хватило чувства собственного достоинства, чтобы воздержаться от расспросов. Я ушел домой.
Что это ей пришло в голову, думал я по дороге, с чего это она вдруг назвала меня жестоким?
Однажды вечером после долгого ожидания на улице я наконец увидел Регину: она выскочила на минутку и сказала, что никуда не пойдет. Я спросил почему.
— Не могу сказать, — ответила она. Я спросил, почему же она тогда мне звонила. — Позже ты поймешь. — Но все-таки она не смогла сохранить свою великую тайну и, когда я уже собирался уходить, заявила: — У меня есть друг.
Друг. Она казалась веселой и оживленной, какими бывают девчонки, когда собираются стайками и шушукаются, поглядывая по сторонам.
— Что за друг? — спросил я.
Она посмотрела на меня широко раскрытыми глазами:
— Я его девушка.
— Хорошо, — сказал я, — но ты ведь и моя девушка?
— Он меня любит, а ты мне еще ни разу этого не говорил.
Мы смотрели друг на друга, Регина заморгала, и я подумал, что она плачет. В окне показалась ее мать, от смущения я не знал, куда деваться, Регина тоже. Я торопливо и сбивчиво попросил Регину познакомить меня с ее новым другом. Она стала отказываться, посматривая на мать, и в конце концов мы расстались в полном замешательстве. Она вошла в дом, шторы задернулись… Конец первого действия. Я пошел домой. Через весь город, по незнакомым улочкам, то и дело резко сворачивая за угол, точно пытаясь стряхнуть неутомимых преследователей. Кажется, я чего-то стыдился, но чего?
Дома я столкнулся на площадке с мефрау Постма. Она рассказала, что ей звонила — кто бы вы думали? — ну конечно, мефрау Рейнтьес.
— Женщины часто звонят друг другу по вечерам, — заметил я.
Мефрау Постма спросила, ужинал я или нет. Она вышла на кухню, тотчас вернулась со стаканом молока, и мы поговорили о том о сем, о жизни. Как мученик, умирающий со словами «бог есть любовь», я заявил, что мы живем в лучшем из миров.
— Если бы только не эти войны!
Чисто женский подход. Я ответил, как солдат, пишущий с фронта последнее письмо невесте:
— Война бессмысленна, но она существует.
(Как и человек, думаю я теперь. Существование человека бессмысленно, но дело не в этом, главное — он существует.) Когда мефрау Постма завела рассказ о своем покойном муже, о своих невзгодах, я встал и, прежде чем уйти к себе, сказал, что все мы одинаковы и что миру нет никакого дела ни до моих, ни до ее невзгод.
Поздний вечер. Улицы опустели, люди отошли ко сну, завтра им снова на работу — и так каждый день, только перед тем, кто выдержит до конца дней своих, откроются небесные врата. Будь я прорицателем, я бы сказал: там-то и там-то гибнет сейчас самым ужасным образом юная девушка. Завтра об этом напишут в газетах, и люди станут повторять: «Ах, это ужасно», но никто, даже самый великий ученый, не в силах изменить случившееся. Ах, если бы я был богом… я стал бы богом, который смог бы и это. Богом, который поделился бы своей силой с землей, чтобы начать все сначала, открыл бы людям, что их спасение лежит прямо здесь, на улице: кто поднимет, тот и спасен. Я бы создал новую девушку — ту же самую. Я бы стал богом не того, а этого света и отправил по домам всех кальвинистов с их псалмопением: ваша песня спета.