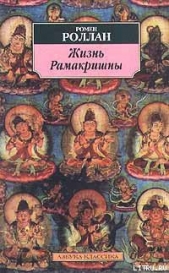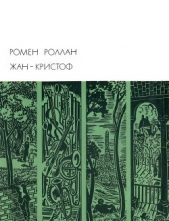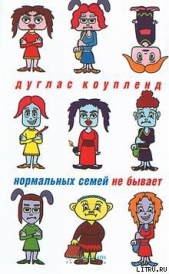Жан-Кристоф. Книги 6-10

Жан-Кристоф. Книги 6-10 читать книгу онлайн
Роман Ромена Роллана "Жaн-Кристоф" вобрал в себя политическую и общественную жизнь, развитие культуры, искусства Европы между франко-прусской войной 1870 года и началом первой мировой войны 1914 года.
Все десять книг романа объединены образом Жан-Кристофа, героя "c чистыми глазами и сердцем". Жан-Кристоф — герой бетховенского плана, то есть человек такого же духовного героизма, бунтарского духа, врожденного демократизма, что и гениальный немецкий композитор.
Во второй том вошли книги шестая — десятая.
Перевод с французского Н. Касаткиной, В. Станевич, С. Парнок, М. Рожицыной.
Вступительная статья и примечания И. Лилеевой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ну, об искусстве говорить не приходится, — отозвался Кристоф.
— Я не утверждаю, что все их дела и действия мне по душе: иногда я даже чувствую отвращение! Но они, по крайней мере, живые люди и способны понять живых людей. Мы не можем обойтись без них.
— Пожалуйста, не преувеличивай, — насмешливо возразил Кристоф. — Я сумею обойтись.
— Ты-то, может быть, и сумеешь. Но какой толк, если твоя жизнь и твое творчество останутся для всех неизвестными, как это, наверно, случилось бы, не будь их. Неужели ты воображаешь, что наши единоверцы придут нам на помощь? Да католицизм пальцем не шевельнет, чтобы спасти от гибели даже своих лучших сынов. Всякого, кто истинно религиозен, кто жизнь свою готов отдать для защиты господа бога, гнусная банда лицемеров, именующих себя католиками, готова объявить равнодушным к религии или даже враждебным ей, если только он осмелится отступить от устава католической церкви или откажется подчиниться авторитету Рима; деятельность таких людей замалчивают, их отдают на растерзание общим врагам. Как бы человек свободного ума ни был велик, если он христианин в душе, но не подчиняется требованиям христианского послушания, католикам уже нет дела до него, им не важно, что в нем, быть может, воплощены самые чистые черты их веры, истинно божественные черты. Он не принадлежит к послушному стаду, к секте слепых и глухих, не способных мыслить самостоятельно. Его отвергают, радуются, когда он страдает в одиночестве и, растерзанный врагами, призывает на помощь своих братьев, за чью веру гибнет. В современном католицизме есть сила убийственной инерции. Он охотнее простит своих врагов, чем тех, кто хочет разбудить его и вернуть ему жизнь. Что сталось бы с нами, мой бедный Кристоф, чего могли бы достичь мы, католики по рождению, но сбросившие с себя иго церкви, если бы нас не поддерживала кучка свободных протестантов и евреев? Сейчас в Европе евреи — самые живые проводники всего, что есть лучшего, и всего, что есть худшего. Они разносят повсюду оплодотворяющую пыльцу мысли. Разве с самого начала твоей деятельности не среди евреев встретил ты и своих лучших друзей, и своих злейших врагов?
— Это правда, — согласился Кристоф, — они ободряли меня, поддерживали, от них я услышал слова, которые воодушевляют человека в бою, ибо он начинает чувствовать, что понят. Конечно, из всех этих друзей верными мне остались очень немногие — их дружба вспыхнула и погасла, как солома. Но не в том дело! И такие вспышки среди ночного мрака — это уже немало! Ты прав, не будем неблагодарными!
— Особенно же не будем глупцами, — сказал Оливье. — Постараемся не искалечить окончательно нашу и без того уже больную цивилизацию, обламывая ее самые жизнеспособные ветви. Если, по несчастью, евреев изгонят из Европы, она настолько оскудеет мыслью и действием, что ей будет грозить полная немощь. Особенно в нашей стране, при том упадке, до которого дошли жизненные силы нации, их изгнание явилось бы для нас еще более опасным кровопусканием, чем изгнание протестантов в семнадцатом веке. Конечно, в настоящее время они занимают место, не соответствующее их действительной ценности. Они злоупотребляют теперешней моральной и политической анархией и даже сами немало способствуют ее росту как в силу своих природных влечений, так и оттого, что чувствуют себя в ней, как рыба в воде. Лучшие — вроде этого славного Мооха — вполне искренни, напрасно только они отождествляют судьбы Франции со своими еврейскими мечтами, которые нам чаще опасны, чем полезны. Однако их нельзя винить за то, что они мечтают пересоздать Францию по собственному образу и подобию. Это у них от любви к Франции. Если их любовь для нас опасна, кто мешает нам не пускать их дальше того места, которое они должны занимать, а место это — во втором ряду. Не потому, чтобы я считал их нацию хуже нашей (эти разговоры о расовом превосходстве просто глупы и отвратительны), но нельзя допускать, чтобы чужая нация, еще не слившаяся с нашей, утверждала, будто она лучше нас знает, что нам нужно. Евреи чувствуют себя хорошо во Франции, — что ж, я очень рад! Но пусть не мечтают уподобить ее Иудее! Умное и сильное правительство, умеющее держать их в границах, сделало бы их одним из наиболее полезных орудий для возвеличения Франции и тем оказало бы услугу и им и нам. Они чересчур нервны, беспокойны и неустойчивы и нуждаются в твердом законе, который бы сдерживал их, а также в повелителе, решительном, но справедливом, который бы их укротил. Евреи — точно женщины: они превосходны, если держать их в узде; но господство, как первых, так и вторых, невыносимо; а те, кто подчиняется этому господству, просто смешны.
Несмотря на то, что взаимная любовь давала возможность Оливье и Кристофу проникать в душу друг друга, в каждом обнаруживались такие черты, которых другой никак не мог понять и которые даже отталкивали его. В первое время дружбы, когда каждый старается сохранить только то, что сходно в нем с другом, они этого не замечали. Но постепенно их национальные различия снова начали сказываться, и всей их нежности не всегда удавалось предотвратить взаимные легкие обиды.
Они погрязали в недоразумениях. Душа Оливье была смесью веры, свободы, страсти, иронии и сомнения во всем, но формулу этой смеси Кристофу никак не удавалось постичь. А Оливье отчасти коробила в Кристофе некоторая душевная прямолинейность; когда Оливье, с высоты аристократизма древней нации с утонченным интеллектом, взирал на мощный и монолитный, но неуклюжий и тяжеловесный ум Кристофа, не способный к самоанализу и вечно вводимый в обман и другими и собой, он не мог не улыбаться. Сентиментальность Кристофа, его бурные излияния, его пылкость порой раздражали Оливье и казались даже несколько смешными, так же как и пресловутый культ силы и чисто немецкая вера в превосходство кулачного права — Faustrecht, в справедливости которых Оливье и его народ имели достаточно оснований усомниться.
А Кристоф не выносил в Оливье иронии, доводившей его иногда до бешенства; не выносил его резонерства, стремления к вечному анализу, какой-то аморальности ума, особенно удивительной при его неизменном стремлении к моральной чистоте и проистекавшей от широты интеллекта, который не хотел ничего отрицать и любил играть самыми противоположными идеями. Оливье взирал на жизнь как бы с точки зрения истории, словно перед ним развертывалась некая панорама; в нем жила столь сильная потребность понимать решительно все, что он обычно видел в одно и то же время все «за» и «против» и защищал их по очереди, смотря по тому, какой из этих противоположных тезисов отстаивал собеседник, так что в конце концов запутывался в собственных противоречиях. Тем более сбивал он этим с толку Кристофа. Однако это не было вызвано ни желанием непременно возражать, ни влечением к парадоксам, а просто проистекало от настойчивого стремления к справедливости и здравому смыслу: его оскорбляла нелепая ограниченность любого предвзятого мнения, и он не мог оставаться равнодушным. Та резкая прямолинейность, с какою Кристоф осуждал безнравственных людей и безнравственные поступки, притом огрубляя факты, шокировала Оливье, который, будучи не менее чист, чем Кристоф, не обладал его стальной несгибаемостью — внешние влияния задевали его, затрагивали, заражали. Он протестовал против склонности Кристофа все преувеличивать и совершал сам ту же ошибку, только в обратном смысле. И что ни день этот своеобразный склад ума побуждал его становиться не на сторону друзей, а на сторону противников. Тогда Кристоф сердился. Он упрекал Оливье за его софизмы, за его снисходительность. Оливье улыбался: он-то слишком хорошо знал, какое отсутствие иллюзий кроется в подобной снисходительности, знал, что Кристоф верит во многое, во что не верит он, Оливье, и со многим мирится. Но Кристоф, не глядя ни направо, ни налево, накидывался на своего друга, как дикий вепрь. Особенно бесила его так называемая «доброта» парижан.
— Главный аргумент для «прощения» негодяев, которым наши парижане так гордятся, — говорил он, — сводится к тому, что эти негодяи и так несчастны оттого, что они негодяи; другой аргумент — что они не отвечают за свои поступки. Но, во-первых, неверно, будто творящий зло несчастен. Это один из предрассудков ходячей морали, который проповедуют авторы дурацких мелодрам и представители тупого оптимизма, вроде того, каким простодушно кичатся Скриб и Капюс. (Скриб и Капюс — это ваши парижские знаменитости, а ваше буржуазное общество — все эти кутилы, лицемеры, наивные младенцы, слишком трусливые, чтобы смотреть в лицо собственной низости, — вполне заслужили таких писателей.) Негодяй отлично может быть счастливым человеком. Он имеет даже больше шансов, чтобы стать счастливым. Что же касается его мнимой безответственности, то вот тебе вторая глупость. Имейте же мужество признать, что если природа равнодушна к добру и злу и потому скорее даже зла, то человек может быть преступным и одновременно вполне здоровым. Добродетель отнюдь не явление природы. Она — создание человека. Так пусть же он и защищает ее! Человеческое общество строила горсточка сильных и великих. Их долг — охранять свое героическое творение от всякой сволочи с песьим сердцем.