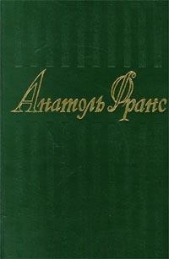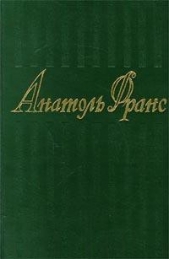1том. Стихотворения. Коринфская свадьба. Иокаста. Тощий кот. Преступление Сильвестра Бонара. Книга м
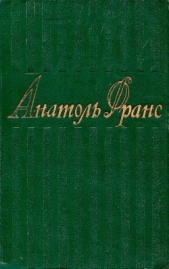
1том. Стихотворения. Коринфская свадьба. Иокаста. Тощий кот. Преступление Сильвестра Бонара. Книга м читать книгу онлайн
В первый том собрания сочинений вошли стихотворения, драматическая поэма «Коринфская свадьба» (Les Noces corinthiennes, 1876), ранние повести: «Иокаста» (Jocaste, 1879), «Тощий кот» (Le Chat maigre, 1879), роман, принёсший ему мировую известность «Преступление Сильвестра Боннара» (Le Crime de Sylvestre Bonnard, 1881) и автобиографический цикл «Книга моего друга» (Le Livre de mon ami, 1885).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Она рассказала Рене о болезни мужа. Он покачал головой, не зная, что сказать. Вероятно, г-н Хэвиленд неумело лечит себя. Лонгмар не мог определить болезнь, потому что описанные симптомы не были характерны ни для одного заболевания при естественном его развитии. Он подозревал, что тут сказывается перемежающееся вредное действие какого-нибудь ядовитого лекарства. Он считал, что расширение зрачка, очевидно, вызвано неумеренным употреблением белладонны или атропина. Должно быть, Хэвиленд, чтобы ослабить острые ревматические боли, прибегал к сернокислому атропину, а теперь, судя по всему, злоупотреблял этим лекарством, принимал его в дозах, опасных для жизни. По настоятельному совету Лонгмара она решила еще раз позвать врачей, хотела сама ухаживать за больным.
На следующий день она пошла поговорить с мужем; он был на чердаке в своей мастерской. Хэвиленд старательно строгал доску, ибо он занимался не только химией, но и столярным ремеслом. Он был спокоен, бодр, и Елена подумала, что ей все померещилось. Он рассказал, что проворовался повар, что пришлось его прогнать; а разоблачил мошенника Грульт. Хэвиленд то и дело клал рубанок на верстак и осторожно снимал стружки, попадавшие на кружевной пеньюар жены. Глаза у него были ясные, совсем прежние глаза, и еще никогда он не был до такой степени лишен воображения.
Она думала о Рене, таком живом, таком умном, о разговорах с ним, увлекательных, будто хорошо написанная книга, о его яркой душе, молодой и сильной, — и ненависть переполняла ее сердце, когда она смотрела на старика, водившего по доске рубанком. В обычный час Грульт принес хозяину микстуру. Когда он увидел, что Елена пришла на чердак, куда она еще никогда не поднималась, глаза у него сверкнули, словно у разъяренной кошки.
Как и в прошлый раз, пока Хэвиленд пил микстуру, Грульт нагло смотрел на Елену и ворчал, кривя губы. В эту минуту он был до того безобразен и так откровенно циничен, что она вдруг, словно прозрев, поняла, зачем он сюда пришел, настолько это было ясно, очевидно, несомненно.
Она протянула руки, торопясь отвести стакан от губ старика. Тут Грульт сказал ей на ухо гнусным и властным тоном:
— Нечего ребенком прикидываться!
И она, потеряв волю, побледнела и не произнесла ни слова. Хэвиленд допил микстуру и вытер губы.
Несчастная в ужасе бросилась вниз по ступенькам, ошеломленная, подавленная, своим непомерным малодушием, и ей казалось, что вот-вот перед ней разверзнется бездна.
Она не осмеливалась показаться на глаза мужу, но в тот же вечер узнала от горничной, что у него был сильный бред, а сейчас он отдыхает. Елена облегченно вздохнула, — ведь ей Весь день мерещилось, что он уже умер.
Она думала: «Он жив; еще есть время сказать обо всем, принять меры. И я не буду соучастницей этого…»
Нервное напряжение улеглось, она задремала, и дремота принесла ей отраду и облегчение; ей приснился Рене, сон придал столько обаяния, столько прелести любимому человеку, с которым она была разлучена; потом ее сновидения стали смутны и тягостны. Голова горела, зубы стучали, ее знобило. Она легла в постель, испытывая чувство, похожее на радость, а потом сама не могла понять, что с ней произошло. Она видела какие-то страшные лица, проплывавшие мимо, и не успевала разобрать, кто перед ней. Куда она попала? Чего от нее хочет толпа чужих людей, наряженных как в маскараде? Что-то горячее и тяжелое давило ей грудь, она тяжело дышала и в ужасе отбивалась. Да это была кошка, большая рыжая кошка, с глазами, то и дело менявшими цвет. Елена поджимала ноги, заслоняла грудь руками. Какая-то монахиня все подходила поправлять одеяло; зачем она здесь? Чужие люди, — их было двое или трое, — никуда не пускали ее. А ведь ей надо было выполнить очень важное дело, такое важное, что его нельзя отложить ни на минуту, но какое именно дело, она и сама не знала. Она кричала: «Ох, голова, бедная моя голова!» Голова у нее так болела, что ей хотелось размозжить себе череп, лишь бы облегчить свои страдания, и она все искала стену, железную стену. Ах, только бы скорее найти! Раскроить себе голову, выпустить кипящую в ней воду. Незнакомый голос твердил: «Льду, еще льду!» Но льда она не чувствовала, она лежала на раскаленном песчаном побережье, у моря расплавленного свинца. Она кричала: «Рене! Рене! Уведите меня в Медонский лес! Неужели вы позабыли те дни, когда собирали для меня букеты из цветущего боярышника?» А потом она впадала в забытье и, очнувшись, превращалась в девочку, в пансионерку, и наизусть, без всякого выражения, читала отрывки из басен и катехизиса. Она бормотала: «Я не могу выучить урока. Сударыня, у меня болит голова. Отведите меня домой. Я хочу к папе».
Однажды Елена очнулась — она была слаба, ей очень хотелось есть. От монахини, которая ухаживала за ней, она узнала, что была три недели тяжело больна, но что опасность миновала. Она сделала над собой усилие, чтобы собраться с мыслями, и спросила:
— А мой муж?
Монахиня попросила ее не волноваться и сказала, что он чувствует себя хорошо.
Елена облегченно вздохнула. Она выздоравливала, но порой ее мучили провалы памяти и какой-то сумбур в голове — обычные последствия воспаления мозга. Лишь одно чувствовала она ясно: ей страшно увидеться с мужем. У нее началось сердцебиение, когда ей сказали, что Хэвиленд, которому тоже стало лучше, пришел ее навестить.
Он посмотрел на нее с нежностью, сказал, что он очень ее любит, и она впервые увидела улыбку на его строгом лице. Эта улыбка была такой проникновенной, такой сердечной, такой искренней, что взволновала и растрогала Елену. Она заплакала и, как дочь, прильнула к старику.
Она обвила руками его шею, но к нему уже вернулась его обычная холодность.
Елена сделала над собой усилие, и в ее затуманенном сознании возникли те два случая, когда Грульт давал ему питье. Она сжала руки мужа и сказала умоляющим тоном:
— Если вы меня любите, если хотите, чтобы мы оба избежали страшной смерти, то заклинаю вас, сегодня же, сейчас же откажите своему лакею. То, что он сделал… так ужасно… я не могу сказать об этом… Прогоните его! прогоните!
Она забилась в судорожных рыданиях и потеряла сознание. Хэвиленд припомнил, что Елена и прежде неприязненно относилась к лакею, и, увидев, как она ослабла, как взволнована, решил, что она не отдает себе отчета в своих словах; но все же он почел необходимым пожертвовать ради нее слугою и, позвав его в мастерскую, сказал:
— Грульт, нам надо расстаться. Я доволен вами и хотел бы оставить вас при себе до самой своей смерти, да. Но ваше присутствие в этом доме стало невозможным по причинам, о которых я вам сообщать не обязан, нет. Своих распоряжений в вашу пользу я не изменю. Моему слову можете верить. Вы покинете мой дом в пятницу. Обязуюсь платить вам жалованье, покуда вы не устроитесь. Мне будет приятно, если ваша жена останется у меня в услужении; считаю нужным держать с вами непосредственную связь во всем, что касается Сэмюэла Эварта. Больше ничего не имею вам сказать.
Грульт молча поклонился и вышел.
VI
Итак, в пятницу Грульт был уволен. На следующий день Хэвиленд почувствовал себя гораздо лучше, так хорошо он не чувствовал себя уже несколько месяцев. В тот же день он вместе с Еленой, которая почти уже совсем поправилась, поехал кататься в Булонский лес.
Коляска, слегка покачивалась, их обдувало ласковым ветерком, и они чувствовали приятную усталость, которая бывает у выздоравливающих. Елена так истомилась, что решила забыть все свои прежние мечты. Сейчас она всем своим измученным сердцем мирилась со скучным мужем и однообразной жизнью, которые ей были суждены. Упадок сил располагает к кротости. Из эгоистического чувства, свойственного больным, она стала нежно относиться к человеку, который сидел рядом с пей в коляске, прикрыв колени той же меховой полстью, что согревала и ее. Она смотрела, чуть при-щурясь, на деревья, на фонари, на пешеходов, которых обгонял экипаж, и на дома, обступившие авеню Елисейских полей, на каретные мастерские и на посыпанные песком аллеи, по которым, в тени, под зелеными сводами деревьев, кривоногие конюхи проваживали лошадей под уздцы; потом — на Триумфальную арку, с нелепой важностью возвышавшуюся над круглой площадью; потом — на авеню, сворачивающее влево, к Булонскому лесу и окаймленное с обеих сторон деревьями английских парков; справа, по аллее, посыпанной песком, проезжали всадники; все утопало в ярком свете весеннего солнца. Дворники уже тащили тележки со шлангами и направляли водяные струи под ноги испуганных лошадей. Не раз Елену обдавало ветерком и по ее лицу скользила тень от промчавшейся виктории [55], то вихрем проносилась по авеню какая-нибудь рыжеволосая и бледная особа с накрашенными губами — она правила сама, расставив локти, а грум сидел сзади, скрестив на груди руки. Потом коляска въехала в Булонский лес и замедлила ход; потянуло прохладой. Неторопливо двигалась вереница экипажей; яркие туалеты и веселые лица радовали глаз. Из коляски в коляску перебрасывались приветствиями, а всадники, улыбаясь, подъезжали к женщинам, которые казались еще прелестней в тени, под приспущенным верхом экипажей. По боковой аллее шли парами рабочие — то была свадебная процессия.