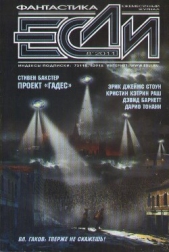Зеленый лик
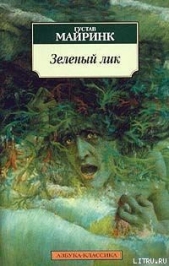
Зеленый лик читать книгу онлайн
Произведения австрийского прозаика Г. Майринка стали одними из первых бестселлеров ХХ века. Он – из плеяды писателей, которые сделали «пражскую школу» знаменитой. «Зеленый лик» – второй после «Голема» роман Майринка. Он также хранит в своей основе старинное предание. Место Голема в «Зеленом лике» занимает Агасфер, или Вечный Жид, который, согласно легенде, подгонял ударами несущего крест Спасителя, за что и был обречен на вечные скитания.
Перевод выполнен В. Фадеевым специально для издательства «Азбука-классика».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Превращение твоих ближних в призраков, о котором я говорил, что оно последует за этим состоянием, несет в себе, как и всё в сфере духа, яд и целебную силу одновременно.
Если ты остановишься на полпути и будешь принимать людей только за призраков, то не впитаешь ничего, кроме яда, и станешь таким, о ком сказано: „Если он любви не имеет, он останется пустым, как медь звенящая" [64]. Но коль скоро уловишь глубинный смысл, сокрытый в каждом видении, имеющем человеческий облик, ты узришь духовным оком не только его, но и свою живую суть. И тогда будет тебе, как Иову, сторицей возвращено все у тебя отнятое. И будешь ты там, где и был, на смех глупцам, ибо им не постичь, что вернуться домой после долгих скитаний совсем не то, что оставаться все время дома.
Обретешь ли ты на этом пути чудесную силу, данную ветхозаветным пророкам, или же вечное упокоение, сие никому не ведомо. Такая сила есть добровольное даяние тех, кто хранит ключи от великих тайн.
Если ты их получишь и сумеешь правильно ими воспользоваться, то это совершится только во благо рода человеческого, который нуждается в знамениях.
Наш путь выводит лишь к ступени зрелости, если ты достиг ее, значит, достоин дара, а вот получишь ли его, – не знаю.
Но тебе не заказано стать Фениксом. Так или иначе. Добиваться этого – твоя воля.
Прежде чем я прощусь с тобой, ты должен узнать, какие знаки укажут тебе, призван ли ты во время „великого равноденствия" воспринять чудесную силу. Итак, слушай.
Один из тех, кто хранит ключи к тайнам магии, остался на земле, дабы искать и собирать призванных.
Ему не суждено умереть, и точно так же не будет предана забвению легенда о нем.
Одни говорят, что это Вечный Жид, другие называют его Илией, гностики уверяют, что это – евангелист Иоанн, но всякий, кто якобы видел его, описывает его на свой лад.
Пусть эти разногласия не собьют с толку, буде повстречаются тебе в уже всхожем грядущем люди, рисующие его то в одном, то в другом облике.
Неудивительно, что его видят по-разному. Такое существо, как он, то есть некто, обративший свое тело в дух, не может быть запечатлен в неизменном образе.
Один пример поможет тебе уяснить, что его лик и весь его облик есть лишь кажущийся образ, призрачное отражение того, что он есть на самом деле.
Вообрази его существом зеленого цвета. На самом деле такого цвета не существует, хотя ты вроде бы можешь видеть его – он возникает из смешения желтого и синего. Всякий художник знает это, но лишь очень немногие видят истину: мир, который кажется зеленым, окрашен желтыми и синими тонами.
Да поможет тебе этот пример уразуметь: если доведется тебе встретить зеленоликого человека, не думай, что он открыл тебе свое истинное лицо.
Если же узришь его таким, каков он есть, как некую геометрическую фигуру, знак, начертанный на небесах, который никому, кроме тебя, не виден, можешь считать себя призванным и признанным чудотворцем.
Мне он явился во плоти, и я мог вложить руку в ребра его.
Его имя…»
Хаубериссер угадал. Это имя было написано на листе, который он всегда носил с собой, имя, не выходившее у него из головы:
«…Хадир Грюн».
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
В воздухе – запах тления. Душные, словно сгорающие в горячке, дни и мглистые ночи.
На прелой траве пятнами плесени белеют по утрам кружева паутины. Между грязно-меловыми бугорками земли – холодные, стекленеющие лужи, которые уже не верят солнцу. Иссохшие стебли не в силах поднять понурые цветочные головки к кристально ясному небу. Доживают свои последние часы мятущиеся бабочки с обтрепанными линялыми крылышками. В аллеях и скверах – сухой шелест жухлой листвы.
Подобно увядающей женщине, которая не жалеет яркого грима, чтобы скрыть свой возраст, природа украшает себя румянами и позолотой осенних красок.
Имя Евы ван Дрейсен в Амстердаме уже забылось. Даже барон Пфайль считал ее погибшей, и Сефарди скорбел о безвозвратной утрате. Только Хаубериссер не мог примириться с мыслью о ее смерти.
Но он не заводил речи о Еве, когда у него бывали друзья и старик Сваммердам.
Фортунат стал немногословен и замкнут и говорил лишь о вещах, которые ничуть не волновали его. Ни единым намеком не выдал он своей сокровенной и крепнувшей день ото дня надежды когда-нибудь вновь увидеть Еву. Он боялся, что, проговорившись об этом, разорвет некую тончайшую сеть.
Только Сваммердаму было позволено угадать его состояние, хотя на сей счет не прозвучало ни слова.
С того момента, когда Фортунат дочитал до конца свиток, в нем начала совершаться некая, ему самому непонятная метаморфоза. Сначала он решил поупражняться в неподвижном сидении и просиживал по настроению час или около того скорее из любопытства, не лишенного, однако, некоторой доли скепсиса, как человек, который заранее отрезвляет себя девизом безверия: «Все равно из этого ничего не выйдет».
Спустя неделю, несмотря на то что теперь он отводил упражнению не более пятнадцати минут утреннего времени, он выполнял его с полной концентрацией сил, ради самого процесса, а не в утомительном и всякий раз напрасном ожидании какого-то чуда.
Вскоре это занятие стало для него такой же потребностью, как и утренняя ванна, о которой он с радостью думал, ложась спать.
Много дней его мучили приступы жуткого отчаяния при мысли о том, что Ева потеряна навсегда, однако он не поддавался искушению теснить мучительные мысли каким-то магическим образом и даже бежать от воспоминаний о Еве, что всегда казалось ему победой эгоизма, бесчувствия и самообмана, но однажды, когда боль стала до того невыносимой, что избавить от нее, казалось, может только самоубийство, он решил сразиться.
Как полагалось по предписанию, он сел, выпрямил корпус и попытался достичь состояния высшего бодрствования, хоть ненадолго отбить натиск беспощадных мыслей. И вопреки ожиданиям, это, как ни странно, удалось с первой попытки. Еще за минуту до погружения он думал, что выйдет из него с еще одним рубцом горького раскаяния и будет терпеть сугубую пытку, но ничуть не бывало. Напротив, в него вселилось чувство непостижимой уверенности, о которое разбивались все измышляемые сомнения, – уверенности в том, что Ева жива и ей не грозит никакая опасность.
Если весь день мысли о ней обрушивались на него сотнями обжигающих ударов, то теперь он воспринимал их как весть: где-то вдали Ева думает о нем и шлет ему свои приветы. То, что было болью, вдруг обратилось в источник радости.
Так путем упражнений обрел он спасительный берег в собственной душе, где мог укрыться, чтобы почерпнуть новые силы для своих надежд и сокровенного роста, который для тех, кто не постиг его в самопознании, на всю жизнь останется пустым звуком, сколь бы часто они о нем ни слышали.
До того, как Фортунат открыл для себя это состояние, он думал, что, избегая боли, причиняемой мыслями о Еве, достигнет лишь скорейшего заживления душевных ран, грубо подтолкнет сам процесс исцеления – то самое время, которое, согласно пословице, лучший лекарь. И он всеми силами противился такому излечению, как всякий скорбящий, который заведомо знает, что притупление боли утраты означает и стирание образа любимого человека, с которым нет сил расстаться.
Но узкая, усыпанная цветами тропа меж двух этих бездн, о существовании которой он раньше и не подозревал, открылась перед ним как бы сама собой: образ Евы не канул и не стерся во прахе прошлого, чего он так боялся, – нет, исчезла не она, но боль. Перед ним явилась сама Ева, а не затуманенный его слезами образ, и в минуты умиротворенной самососредоточенности он чувствовал ее близость так ясно, будто до него долетало живое дыхание.
Все больше удаляясь от мира, он познал часы такого безмерного счастья, о котором прежде и помышлять не мог. Ему открывались все новые дали прозрения, и он все отчетливее понимал, что ему дано пережить истинное чудо, в сравнении с чем все были и небыли внешней жизни не просто миражи, как он думал всегда, а самые настоящие тени, отступающие перед лучами света.