Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть вторая
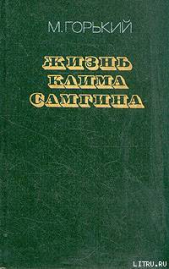
Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть вторая читать книгу онлайн
15 марта 1925 года М. Горький писал С. Цвейгу: «В настоящее время я пишу о тех русских людях, которые, как никто иной, умеют выдумать свою жизнь, выдумать самих себя» (Перевод с французского. Архив А. М. Горького). «...Очень поглощен работой над романом, который пишу и в котором хочу изобразить тридцать лет жизни русской интеллигенции, – писал М. Горький ему же 14 мая 1925 года. – Эта кропотливая и трудная работа страстно увлекает меня» (Перевод с французского. Архив А. М. Горького).
«...Пишу нечто «прощальное», некий роман-хронику сорока лет русской жизни. Большая – измеряя фунтами – книга будет, и сидеть мне над нею года полтора. Все наши «ходынки» хочу изобразить, все гекатомбы, принесенные нами в жертву истории за годы с конца 80-х и до 18-го» (Архив А. М. Горького).
Высказывания М. Горького о «Жизни Клима Самгина» имеются в его письмах к писателю С. Н. Сергееву-Ценскому, относящихся к 1927 году, когда первая часть романа только что вышла в свет. «В сущности, – писал М. Горький, – эта книга о невольниках жизни, о бунтаре поневоле...» (из письма от 16 августа. Архив А. М. Горького).
И немного позднее:
«Вы, конечно, верно поняли: Самгин – не герой» (из письма от 8 сентября 1927 года. Архив А. М. Горького).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Идешь, студент? Ну? Коллега? Потом она стала мурлыкать в ухо ему:
А когда он пригрозил, что позовет полицейского, она, круто свернув с панели, не спеша и какой-то размышляющей походкой перешла мостовую и скрылась за монументом Екатерины Великой. Самгин подумал, что монумент похож на царь-колокол, а Петербург не похож на русский город.
«Мне нужно переместиться, переменить среду, нужно встать ближе к простым, нормальным людям», – думал Клим Самгин, сидя в вагоне, по дороге в Москву, и ему показалось, что он принял твердое решение.
Предполагая на другой же день отправиться домой, с вокзала он проехал к Варваре, не потому, что хотел видеть ее, а для того, чтоб строго внушить Сомовой: она не имеет права сажать ему на шею таких субъектов, как Долганов, человек, несомненно, из того угла, набитого невероятным и уродливым, откуда вылезают Лютовы, Дьякона, Диомидовы и вообще люди с вывихнутыми мозгами.
Необъятная и недоступная воздействию времени Анфимьевна, встретив его с радостью, которой она была богата, как сосна смолою, объявила ему с негодованием, что Варвара уехала в Кострому.
– Актеришки увезли ее играть, а – чего там играть? Деньгами ее играть будут, вот она, игра!
И, вытирая фартуком лицо свое, цвета корки пшеничного хлеба, она посоветовала, осудительно причмокивая:
– Женился бы ты на ней, Клим Иваныч, что уж, право! Тянешь, тянешь, а девушка мотается, как собачка на цепочке. Ох, какой ты терпеливый на сердечное дело!
С ловкостью, удивительной в ее тяжелом теле, готовя посуду к чаю, поблескивая маленькими глазками, круглыми, как бусы, и мутными, точно лампадное масло, она горевала:
– Тоже вот и Любаша: уж как ей хочется, чтобы всем было хорошо, что уж я не знаю как! Опять дома не ночевала, а намедни, прихожу я утром, будить ее – сидит в кресле, спит, один башмак снят, а другой и снять не успела, как сон ее свалил. Люди к ней так и ходят, так и ходят, а женишка-то все нет да нет! Вчуже обидно, право: девушка сочная, как лимончик...
Добродушная преданность людям и материнское огорчение Анфимьевны, вкусно сваренный ею кофе, комнаты, напитанные сложным запахом старого, устойчивого жилья, – все это настроило Самгина тоже благодушно. Он вспомнил Таню Куликову, няньку – бабушку Дронова, нянек Пушкина и других больших русских людей.
«Вот об этих русских женщинах Некрасов забыл написать. И никто не написал, как значительна их роль в деле воспитания русской души, а может быть, они прививали народолюбие больше, чем книги людей, воспитанных ими, и более здоровое, – задумался он. – «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет», – это красиво, но полезнее войти в будничную жизнь вот так глубоко, как входят эти, простые, самоотверженно очищающие жизнь от пыли, сора».
Мысль эта показалась ему очень оригинальной, углубила его ощущение родственности окружающему, он тотчас записал ее в книжку своих заметок и удовлетворенно подумал:
«Да, здесь потеплее Финляндии!»
Просмотрел несколько номеров «Русских ведомостей», незаметно уснул на диване и был разбужен Любашей:
– Что ты спишь среди дня! – кричала она кольцов-ским стихом, дергая его за руку.
Она расслабленно сидела на стуле у дивана, вытянув коротенькие ножки в пыльных ботинках, ее лицо празднично сияло, она обмахивалась платком, отклеивала пальцами волосы, прилипшие к потным вискам, развязывала синенький галстук и говорила ликующим голосом:
– Клим, голубчик! Знаешь, – вышел «Манифест Российской социал-демократической партии». Замечательно написан! Нет, ты подумай – у нас – партия!
– У кого это, у нас? – спросил Клим, надевая очки.
– Ну, господи! У нас, в России! Ты пойми: ведь это значит – конец спорам и дрязгам, каждый знает, что ему делать, куда идти. Там прямо сказано о необходимости политической борьбы, о преемственной связи с народниками – понимаешь?
От восторга она потела все обильнее. Сорвав галстук, расстегнула ворот кофточки:
– Задыхаюсь!
И, сопровождая слова жестами марионетки, она стала цитировать «Манифест», а Самгин вдруг вспомнил, что, когда в селе поднимали колокол, он, удрученно идя на дачу, заметил молодую растрепанную бабу или девицу с лицом полуумной, стоя на коленях и крестясь на церковь, она кричала фабриканту бутылок:
«Господи! Дай тебе господи! Пошли тебе господи!» Найдя в Любаше сходство с этой бабой, Самгин невольно рассмеялся и этим усилил ее радость, похлопывая его по колену пухлой лапкой, она вскрикивала:
– Не правда ли? Главное: хорошие люди перестанут злиться друг на друга, и – все за. живое дело!
Самгин тихонько ударил ее по руке, хотя желал бы ударить сильнее.
– О «Манифесте» ты мне расскажешь после, а теперь...
– Варвара? – спросила она. – Представь, поехала играть; «Хочу, говорит, проверить себя...»
– Я – не о ней. Актриса она – не более, чем ты и всякая другая женщина...
Любаша показала ему язык.
– Дурачок ты, а не скептик! Она – от тоски по тебе, а ты... какой жестокосердный Ловелас! И – чего ты зазнаешься, не понимаю? А знаешь, Лида отправилась – тоже с компанией – в Заволжье, на Керженец. Писала, что познакомилась с каким-то Берендеевым, он исследует сектантство. Она тоже – от скуки все это. Антисоциальная натура, вот что... Анфимьевна, мать родная, дайте чего-нибудь холодного!
– Не дам холодного, – сурово ответила Анфимьевна, входя с охапкой стиранного белья. – Сначала поесть надо, после – молока принесу, со льда...
Самгин не находил минуты, чтобы сделать выговор, да уже и не очень хотел этого, забавное возбуждение Любаши несколько примиряло с нею.
– Да, – забыла сказать, – снова обратилась она к Самгину, – Маракуев получил год «Крестов». Ипатьевский признан душевнобольным и выслан на родину, в Дмитров, рабочие – сидят, за исключением Сапожникова, о котором есть сведения, что он болтал. Впрочем, еще один выслан на родину, – Одинцов.
Вскочив со стула, она пошла к двери.
– Переоденусь, пока не растаяла. Но в дверях круто повернулась и, схватясь за голову, пропела:
– Ой, Климуша, с каким я марксистом познакомила-ась! Это, я тебе скажу... ух! Голос – бархатный. И, понимаешь, точно корабль плавает... эдакий – на всех парусах! И – до того все в нем определенно... Ты смеешься? Глупо. Я тебе скажу: такие, как он, делают историю. Он... на Желябова похож, да!
Исчезая, она еще раз повторила через плечо:
– Да!
Самгин чувствовал себя несколько засоренным ее новостями. «Манифест» возбуждал в нем острое любопытство.
«Вероятно, какая-нибудь домашняя стряпня студентов. Надобно сходить к Прейсу».
И, вспомнив неумеренную радость Любаши, брезгливо подумал, что это объясняется, конечно, голодом ее толстенького тела, возбужденного надеждой на бархатного марксиста.
«Все-таки я ее проберу».
Она снова явилась в двери, кутая плечи и грудь полотенцем, бросила на стол два письма:
– Давно уже получены.
В одном письме мать доказывала необходимость съездить в Финляндию. Климу показалось, что письмо написано в тоне обиды на отца за то, что он болен, и, в то же время, с полным убеждением, что отец должен был заболеть опасно. В конце письма одна фраза заставила Клима усмехнуться:
«Я не думаю, что Иван Акимович оставил завещание, это было бы не в его характере. Но, если б ты захотел – от своего имени и от имени брата – ознакомиться с имущественным положением И. А., Тимофей Степанович рекомендует тебе хорошего адвоката». Дальше следовал адрес известного цивилиста.
Второе письмо было существеннее.
«Пишу в М., так как ты все еще не прислал адрес гостиницы в Выборге, где остановился. Я очень расстроена. На долю Елизаветы Львовны выпала роль героини крупного скандала, который, вероятно, кончится судом и тюрьмою для известного тебе Инокова. Он взбесился и у нас, на дворе, изувечил регента архиерейского хора, который помогал Лизе в ее работе по «Обществу любителей хорового пения» и, кажется, немножко ухаживал за нею. Она не отрицает этого, говоря, что нет мужчины, который не ухаживал бы за женщинами. Она, конечно, очень взволнована, но из самолюбия скрывает это. В дело вмешался владыка Иоасаф, и это может иметь для Инокова роковое значение. Он правдив до глупости, не хочет, чтоб его защищали, и утверждает, что регент запугивал Лизу угрозами донести на нее, она будто бы говорила хористам, среди которых много приказчиков и ремесленников, что-то политическое. Но, зная Лизу, я, конечно, не допускаю ничего подобного. Тут всего хуже то, что Иноков не понимает, как он повредил моей школе. Лиза удивляет меня: как можно было допустить, чтоб влюбился мальчишка? У нее какое-то ненормальное любопытство к людям, очень опасное в наше время. Ты совершенно правильно писал, что время становится все более тревожным и что вполне естественно, если власти, охраняя порядок, действуют несколько бесцеремонно».


























