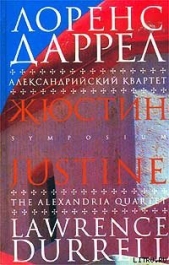Бальтазар
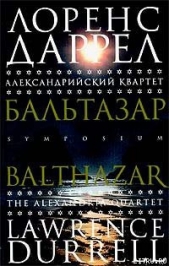
Бальтазар читать книгу онлайн
Дипломат, учитель, британский пресс-атташе и шпион в Александрии Египетской, старший брат писателя-анималиста Джеральда Даррела, Лоренс Даррел (1912-1990) стал всемирно известен после выхода в свет «Александрийского квартета», разделившего англоязычную критику на два лагеря: первые прочили автору славу нового Пруста, вторые видели в ней литературного шарлатана. Второй роман квартета — «Бальтазар» (1958) только подлил масла в огонь, разрушив у читателей и критиков впечатление, что они что-то поняли в «Жюстин». Романтическо-любовная история, описанная в «Жюстин», в «Бальтазаре» вдруг обнажила свои детективные и политические пружины, высветив совершенно иной смысл поведения ее героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Проблема с ключиком от часов, — пишет Бальтазар, — с тем самым, который ты тогда помогал мне искать в трещинах между камнями на Гранд Корниш — зимой, помнишь? — разрешилась весьма странным образом. Я тебе говорил — мой хронометр тогда остановился, и я даже успел заказать ювелиру новый золотой анкх, точную копию. Но пока суд да дело, ключ ко мне вернулся, и вот при каких обстоятельствах. В один прекрасный день ко мне в клинику пришла Жюстин, обняла меня, поцеловала — и вынула его из сумочки. „Узнаешь? — спросила она, улыбнулась и добавила: — Извини меня, Бальтазар, дорогой мой, ты так переживал из-за него. А мне в первый раз в жизни пришлось поиграть в карманного воришку. Понимаешь, в доме есть один сейф, и я решила во что бы то ни стало получить к нему доступ. На первый взгляд ключи показались мне одинаковыми, и я решила попробовать, не подойдет ли к замку твой. Я хотела вернуть его тебе на следующее же утро, пока ты не хватился пропажи, но кто-то взял его у меня с туалетного столика. Не говори никому, ладно? Я подумала: может, Нессим увидел его случайно, понял, в чем дело, и взял, чтобы самому проверить — подходит он к сейфу или нет. К счастью (или к несчастью), он не подходит, и сейф я открыть не смогла. Но и шум поднимать тоже было опасно — а вдруг он его и в глаза не видел; к тому же у меня не было никакой охоты привлекать внимание к этому ключику — такому похожему… Я проверила Фатму, не в лоб, конечно, и обыскала все свои шкатулки. Пусто. А через два дня Нессим сам принес ключик и сказал, что обнаружил его только что в коробочке для запонок; сходство со своим он, конечно, заметил, но о сейфе не обмолвился ни словом. Просто попросил меня вернуть его тебе и по возможности извиниться за задержку“».
«Конечно, я был обижен и так ей и сказал: „В конце-то концов, что ты забыла в Нессимовом сейфе? — спросил я, — На тебя это совсем не похоже, и, должен тебе заметить, мое о тебе мнение отнюдь не улучшилось — после всего того, что Нессим для тебя сделал“. Она опустила голову и ответила: „Я только надеялась — может, там окажется хоть что-нибудь о ребенке, — Нессим, как мне кажется, что-то от меня скрывает“».
ЧАСТЬ 3
Х
«Сдается мне (пишет Бальтазар), что если ты попробуешь каким-то образом включить все рассказанное мной в свою рукопись — „Жюстин“, так ты ее назвал? — книга у тебя получится более чем странная. История будет рассказана, так сказать, на разных уровнях. Сам того не подозревая, я, быть может, подсказал тебе ее форму, нечто новое, необычное! Помнишь Персуорденову идею насчет романа „с раздвижными панелями“ — есть что-то общее, правда? Или как в средневековом палимпсесте, где идущие от разного корня истины наслаиваются друг на друга и каждая отрицает, а может быть, и дополняет предыдущую. Монахи трудятся, скоблят и на месте элегии пишут стих из Священного Писания!»
«Не думаю также, чтобы эту аналогию нельзя было бы с успехом применить к александрийской действительности, сакральной и в то же время профанной; скользишь меж Феокритом, Плотином — и Септуагинтой — по сообщающимся кровеносным сосудам разных рас, и не важно, звучит ли истина по-коптски, по-гречески или по-еврейски — на арабском ли, на турецком, на армянском… Разве я не прав? Действие времени на пространство неторопливо, как оседает в Дельте ил на морское дно, нанося песок, выстраивая острова, меняя русла… Так с возрастом жизнь оставляет на лицах людей, мазок за мазком, морщины, след пережитого, перечувствованного — и кто отличит след смеха от следа слезы? Кротовины опыта на песках бытия…»
Так пишет мой друг, и он прав; ибо Комментарий ставит теперь передо мной проблемы куда большие, нежели проблема объективной «правды жизни» или, если хотите, «искусства». Он, как и сама жизнь, — вне зависимости от того, пытаешься ты ей навязать свою волю или плывешь по течению, — поднимает вопрос формы: эти камни тяжелей и тверже; и как же мне собрать воедино россыпь застывших кристаллами фактов, как выплавить из руды металл смысла и отлить в нем — мой Город, Град любви и бесстыдства?
Хотел бы я знать. Хотел бы я знать. Покров приоткрылся, и я увидел столько, что стою теперь, оторопев, на пороге новой книги — новой Александрии. Я рисовал магический знак, чтобы вызвать из мрака ушедших и умерших, я вплетал в рисунок имена городских талисманов — Кавафиса, Александра, Клеопатры и прочих, — я сам его придумал. Я присвоил явленный мне образ, я охранял его ревниво, и он был истиной, но не всей, а лишь частью от целого. И вот теперь в ослепительном блеске новых моих сокровищ, — а истина, хоть она подобно любви и безжалостна, также не может не восприниматься как богатство, — что мне делать дальше? Расширить пределы истины прежней, забивая в фундамент бут, хриплый камень новых фактов, — и возвести на камне сем новую Александрию? Или пусть все будет по-прежнему: характеры, расстановка сил — может быть, просто изменилась истина?
Всю весну я жил на острове, придавленный гротескным Бальтазаровым подарком, — чувства мои обострились невероятно, и, как ни странно, даже в отношении вещей куда как давних. Интересно, а возможно ли вообще чувство ретроспективное, ретроактивное?
Все, что я написал, основано было на страхе Жюстин перед мужем — и страх был непритворный, и слезы были искренними. Я своими глазами видел на его лице холодную немую ревность — и видел в ее глазах страх. И вот теперь Бальтазар говорит мне: он никогда не причинил бы ей зла. Чему верить?
Мы часто обедали вместе, вчетвером; и я сидел за столом, безмолвный, пьянея памятью о поцелуях (не выдуманных, настоящих), и верил — ведь она сама так сказала, — что присутствие четвертого, Персуордена, усыпит Нессимову ревность и даст нам свободу быть вместе! Если же верить Бальтазару, ширмой, обманкой был я. (Я вспомнил? или придумал задним числом? — воспоминание об особого рода улыбке, мелькавшей время от времени в уголках Персуорденовых губ, не то циничной, не то нахальной.) Тогда я думал, что прячусь за его спиной; выходит, он прятался за моей! До конца поверить в это мне мешает… что? Качественный анализ поцелуя женщины, способной прошептать «Я люблю тебя» так, словно ее вздернули на дыбу? Конечно же, конечно. В любви я эксперт — все мы эксперты в любви, но англосаксы в особенности. Итак, я должен верить поцелую, а не слову друга? Невозможно, ведь Бальтазар не врет…
Неужто слепота сопутствует любви по определению? Конечно, я отворачивал лицо свое от мысли, что Жюстин способна изменить мне в то самое время, когда я ею обладаю, — а разве бывает иначе? Принять в то время истину настолько горькую я был не в силах, хотя в глубине души всегда знал, с самого начала: она не сможет хранить мне верность вечно. И если случалось мне прошептать самому себе эту кощунственную мысль, я тут же добавлял поспешно, как всякий муж, как всякий любовник: «Но, в конце концов, что бы она ни делала, любит она по-настоящему одного меня!» Такие софизмы способны утешить, такая ложь только лишь и позволяет любви длиться!
Да и сама она ни разу не дала мне прямого повода в ней усомниться. Только однажды, помню, возникло у меня в связи с Персуорденом даже не подозрение — намек на подозрение и тут же растаяло. Однажды он вышел нам навстречу из студии, и на губах у него был след губной помады. Но едва ли не в тот же самый миг я заметил у него в руке сигарету — он, должно быть, просто подобрал сигарету, оставленную Жюстин в пепельнице едва начатой (вполне в ее стиле), на фильтре тоже была губная помада. Если хочешь найти объяснение, нет ничего проще, чем найти его сразу.
Чертов Комментарий, груженный под завязку вопросительными знаками; он обладает удивительным свойством всегда попадать в больное место, о чем бы ни зашла речь. Я уже начал переписывать его — я имею в виду, от начала до конца — медленно и через силу; и не только для того, чтобы лучше понять, где и в чем он противоречит собственной моей версии реальности; я хочу увидеть его как некое единство — как самостоятельную рукопись, как сторонний взгляд на события, которые я понял однажды по-своему и прожил как понял — или они меня прожили. Неужто и вправду я столького не видел прямо у себя под носом: коннотации улыбок, случайных слов и жестов, посланий, написанных пальцем в лужице пролитого на стол вина, адреса, нацарапанного на уголке газеты, которую тут же свернули и отложили в сторону? Неужто придется наново переработать весь мой опыт, чтобы все же пробиться к истине, к самому ее сердцу? «У истины сердца нет, — пишет Персуорден. — Истина — женщина. Потому она — загадка. А женщина, и это большее, что мы, не будучи французами, можем о ней сказать, есть животное ночное».