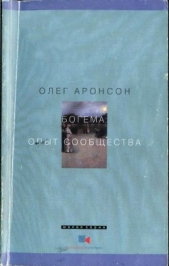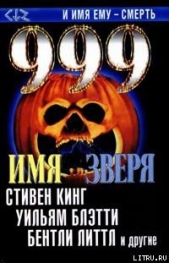Меир Эзофович

Меир Эзофович читать книгу онлайн
Польская писательница. Дочь богатого помещика. Воспитывалась в Варшавском пансионе (1852-1857). Печаталась с 1866 г. Ранние романы и повести Ожешко ("Пан Граба", 1869; "Марта", 1873, и др.) посвящены борьбе женщин за человеческое достоинство.
В двухтомник вошли романы "Над Неманом", "Миер Эзофович" (первый том); повести "Ведьма", "Хам", "Bene nati", рассказы "В голодный год", "Четырнадцатая часть", "Дай цветочек!", "Эхо", "Прерванная идиллия" (второй том).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Шмуль замолчал, наконец, задохнувшись от длинной и быстрой речи, а Меир, глядя ему в лицо горящим пронизывающим взглядом, спросил:
— А если бы меня богачи приказали побить камнями, вы бы также сказали: пусть так будет?
Шмуль сразу так испугался страшного предположения Меира, что даже отскочил от него на несколько шагов.
— Гвалт! — воскликнул он. — Зачем допускать такие скверные мысли к себе в голову!
Потом, однако, добавил спокойнее:
— Ну, морейне, если бы ты не соблюдал нашего святого закона…
Но не докончил, так как Меир перебил его, и в звуке его голоса звучало увлечение:
— Шмуль! А разве вы все знаете, что такое наш святой закон? Что в нем божественное приказание и что людской вымысел?
— Ша! — зашикал потихоньку Шмуль, — нас слушают люди! Я не хочу, морейне, чтобы в моем доме тебя постигла неприятность!
Меир бросил взгляд за окно и увидел, что и в самом деле несколько взрослых мужчин уселось на длинной, узкой скамейке, стоявшей у стены дома Шмуля. Люди эти вовсе не подслушивали, наоборот, они даже разговаривали между собой, но, очевидно, последние возгласы Шмуля и Меира были услышаны ими, так как они заглянули в открытое оконце и смотрели в комнату с удивлением и явным недоброжелательством. Меир нетерпеливо пожал плечами и, не прощаясь со Шмулем, направился к выходу. Но когда он был уже у порога, Шмуль подскочил к нему и, быстро наклонившись своей гибкой фигурой, поцеловал ему руку.
— Морей не! — прошептал он, — мне очень жаль тебя! Опомнись! У тебя очень доброе сердце, но очень плохая голова! В ней горит огонь! Ай-вей! Что ты сделал сегодня с меламедом! Морейне! Опомнись и не создавай соблазна еврейскому народу!
Продолжая держать руку Меира в своих худых руках, он поднял к нему лицо, нервно вздрагивавшее, и поспешно прибавил:
— Морейне! Если б над тобой не тяготело такое страшное обвинение, я бы открыл сегодня перед тобой мое сердце. Потому что сегодня у хайета Шмуля большие затруднения! Ну, он сам не знает, что делать! Он может остаться на всю жизнь таким бедным, как теперь, и может сделаться богатым! Он может быть очень счастливым и очень несчастным, потому что к нему идет теперь великое счастье и само лезет ему в руки, но он боится взять его, потому что оно выглядит как несчастье!
Меир задумчиво посмотрел на бедняка, загадочно говорившего о какой-то тайне. Но в эту минуту из-за черной печи отозвался грубый, хриплый голос Иохеля:
— Шмуль! Да замолчишь ли ты? Ком хер!
Шмуль со все еще вздрагивающим лицом, на котором было выражение какой-то все поглощающей заботы, отскочил от Меира, и тот задумчиво, с пылающим взором вышел на улицу.
Сидевшие у стены люди при виде его заметно нахмурились. Двое из них поздоровались с ним коротко и равнодушно; никто, как бывало раньше, не встал перед ним, никто не подошел к нему, чтобы проводить его по улице, доверчиво разговаривая с ним.
Только из-под стены дома поднялся ребенок в длинном сером сюртучишке, и едва Меир отошел на несколько шагов, — последовал за ним. Руки у него были всунуты в рукава одежды, глаза были измученные и сонливые. Однако он продолжал идти, а так как возбужденный юноша двигался вперед скорым шагом, то и ребенок также ускорял шаги.
Идя, таким образом, друг за другом, Меир и Лейбеле прошли длинную улицу и вскоре очутились на пустырях, отделявших последние дома местечка от Караимского холма.
Было уже совершенно темно, но в хате Абеля Караима еще не горело желтое пламя маленькой свечки. Однако в ней не спали: едва Меир приблизился к открытому окну, как в нем показалась стройная фигура Голды.
Они молча поздоровались, кивнув друг другу головой.
— Голда, — сказал Меир тихо, но быстро, — у тебя не было никаких неприятностей? Никто тебе не причинил зла?
Девушка молчала минуту, потом в свою очередь ответила вопросом:
— Почему ты, Меир, спрашиваешь меня об этом?
— Я боюсь, что тебя могут обидеть. Люди начали говорить о тебе.
Голда презрительно пожала плечами.
— Я на их обиды не обращаю внимания, — сказала она, — я выросла вместе с обидой, это моя сестра.
Минуту продолжалось молчание. Меир все еще казался встревоженным.
— Почему у вас сегодня темно в доме? — спросил он.
— У меня нет шерсти для пряжи, а зейде молится в темноте.
Действительно, из угла комнаты доносился дрожащий голос молящегося Абеля.
— А почему у тебя нет шерсти для пряжи? — спросил Меир.
— Я отнесла Гане Витебской и Саре, жене Бера, то, что напряла для них, а они мне не дали больше работы.
— Они ничего худого не сказали тебе? — порывисто спросил Меир.
Голда опять помолчала немного.
— Людские глаза говорят иногда худшие вещи, нежели язык, — произнесла она спокойно.
Видимо, она не хотела жаловаться или обвинять кого-либо.
Впрочем, возможно, что ее мало трогало все, касавшееся ее самой, и что мысли ее были заняты чем-то другим.
— Меир, — сказала она, — у тебя была на этих днях большая неприятность…
Меир сел на маленькую узкую лавочку, стоявшую под открытым окном, подпер голову руками и тяжело вздохнул.
— Наибольшее огорчение было у меня сегодня, — ответил он: — народ мой отвратил от меня лицо свое и объявил меня своим врагом. Когда я прохожу, то вместо расположения к себе вижу враждебность, а те, которые открывали передо мной свои сердца, теперь относятся ко мне подозрительно…
Голда печально опустила голову; через минуту Меир продолжал:
— Я сам уже не знаю теперь, что мне делать. Великое сомнение охватило мою душу. Если я буду говорить и действовать, как мне велит мое сердце, народ мой возненавидит меня, и несчастья обрушатся на мою голову. А если я буду говорить и действовать против своего сердца, я сам возненавижу себя, и никакое счастье не будет мне мило. Сидя в бет-га-мидраше, я решил поддерживать со всеми мир, на глупые и скверные вещи закрывать глаза и жить спокойно. Но, выйдя из бет-га-мидраша, я не выдержал и из-за одного бедного ребенка восстановил против себя меламеда, а из-за меламеда всех старших и весь народ. Вот что я сделал сегодня! А теперь я опять думаю: к чему все это? Разве, благодаря этому, меламед перестанет выбивать у бедных детей из головы разум, разве он не будет лишать их тело здоровья?.. Что могу я сделать? Я один… молод… жены и детей у меня еще нет и крупных дел я не веду… Значит, надо мною все властны, а я ни над кем. Моих приятелей преследуют за то, что они водят со мной дружбу. Они испугаются и бросят меня. Тебя начали уже преследовать за то, что ты соединила свое сердце с моим, за то, что твой голос был товарищем моему… И я погублю тебя этим… Может быть, лучше закрыть глаза и уши… приказать печали и тоске, чтобы они ушли из сердца… и жить так, как все живут?..
Меир говорил все тише: по голосу его было слышно, что неуверенность и сомнения жестоко разрывают ему грудь.
Воцарилось довольно долгое молчание. В это время из-за холма, у подножия которого стояла хата, стали доноситься какие-то звуки. Только с трудом можно было сразу отличить среди этих звуков стук колес, тиха двигавшихся по песчаной почве, сдержанный говор и шаги множества людей. Минуту спустя эти звуки стали ближе и яснее; среди глубокой тишины, царившей в этом месте, в них было что-то таинственное.
— Что это такое? — вставая с лавки, сказал Меар.
— Что это такое? — спокойно повторила Голда.
— Мне кажется, — начал юноша, — будто с той стороны горы ехало много возов и что они остановились…
— А мне кажется, словно в горе что-то гудит и стучит.
И действительно, могло показаться, что шаги людей раздаются теперь внутри самого холма и что там слышится стук бросаемых и устанавливаемых тяжелых предметов.
Тревога отразилась на лице Меира. Он пристально посмотрел на Голду.
— Затвори окно и запри на засов! — сказал он торопливо. — Я пойду посмотрю, что там такое.
Он, видимо, боялся за нее. Но девушка пожала плечами и ответила:
— К чему мне запирать окно и двери? Они очень ветхие, и если б даже я и заперла их, каждый, кто только дотронется до них сильной рукой, откроет их.