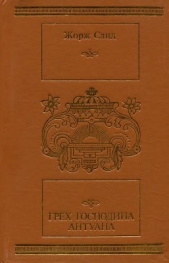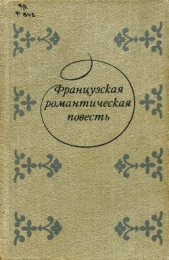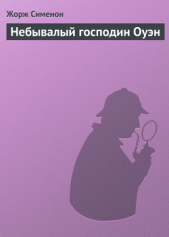Собрание сочинений. Т. 5. Странствующий подмастерье. Маркиз де Вильмер
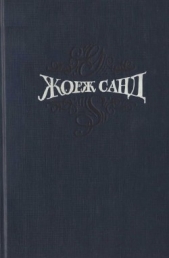
Собрание сочинений. Т. 5. Странствующий подмастерье. Маркиз де Вильмер читать книгу онлайн
Герой «Странствующего подмастерья» — ремесленник, представитель всех неимущих тружеников. В романе делается попытка найти способы устранения несправедливости, когда тяжелый подневольный труд убивает талант и творческое начало в людях. В «Маркизе де Вильмере» изображаются обитатели аристократического Сен-Жерменского предместья.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Рифмы не слишком изысканные, — вполголоса заметил граф внучке, — но мысль сама по себе недурна.
И они незаметно подошли ближе. Визг пилы и рубанка заглушал звук их шагов и голосов.
— Который же из них Пьер Гюгенен? — спросила маркиза управляющего.
— Вот тот, самый рослый и сильный из них, — ответил господин Лербур.
Маркиза смотрела поочередно то на Коринфца, то на Чертежника и не могла решить, кто же из них лучше — этот, мужественным своим обликом и сильным гибким станом напоминавший статую античного юноши, или тот, другой — бледный, с длинными кудрями, томно-задумчивый, словно юный Рафаэль.
Старый граф, которому присуще было чувство прекрасного, тоже был поражен и невольно залюбовался на редкость красивой группой. Это были три совершенно греческих головы (третьим был папаша Гюгенен со своим высоким лбом, словно вычеканенным профилем, серебристой сединой и полными огня глазами).
— А еще говорят, будто французский народ некрасив! — заметил он внучке, подняв свою трость и указывая ею на рабочих, как будто это была картина. — Вот, пожалуйста, образчики великолепной породы французов.
— Да, в самом деле, — отвечала Изольда, рассматривая старика и обоих юношей так же хладнокровно, как если бы и в самом деле рассматривала живопись.
Папаша Гюгенен, который сам в этот день еще не работал, пошел навстречу высоким посетителям, учтиво и с достоинством приветствуя их. Граф всем своим обликом невольно вызывал чувство почтения к себе, и людям самых демократических взглядов при встрече с ним приходилось отказываться от своего привычного предубеждения.
Здороваясь со старым столяром, граф снял шляпу и опустил ее чуть ли не до самой земли, как сделал бы это, здороваясь с герцогом или пэром. Ему чужды были повадки тех развязных повес эпохи Регентства, которые обращались с народом запанибрата, тем самым унижая его. Он унаследовал здравые понятия вельмож времен Людовика Четырнадцатого, которые, in petto [80] относясь к народу свысока, внешне держались с ним безукоризненно вежливо. Но в эту издавна вкоренившуюся в него светскую учтивость старый граф вкладывал некий новый смысл: он не забыл дней революции и теперь полушутя-полусерьезно выказывал себя сторонником принципа равенства; он уверял, будто всякий раз, когда ему случается иметь дело с простолюдином, шепчет про себя: «Ты хочешь, чтобы тебе поклонились? Изволь, народ-самодержец!»
Прежде всего он учтиво осведомился у старого столяра, как его рука, и выразил сожаление, что несчастный случай произошел во время работы над его, графа, заказом.
— А все потому, что спешил, — отвечал папаша Гюгенен. — В мои годы пора быть разумнее. Но господин Лербур больно торопил меня, а я, значит, испугался, как бы граф не разгневался, ну и начал что есть силы резать дерево, да и не заметил, как саданул резцом по руке. А как вонзилось железо в мою старую кожу (она у меня твердая, что старый дуб), тут я понял — резец-то у меня на славу!
— Так вы, значит, изображаете меня таким свирепым? — проговорил граф, обращаясь к управляющему. — До сих пор я, насколько мне известно, еще никогда никого не калечил.
Пьер Гюгенен стоял недвижимо с обнаженной головой и с каким-то неизъяснимым волнением смотрел на мадемуазель де Вильпрё. Сердце его сжималось. При этом имени в памяти его всплывали те бессонные ночи, которые он провел в ее кабинете за чтением. Он вспомнил, какое почти молитвенное преклонение вызывала в нем в ту пору никогда не виданная им хозяйка этого святилища. Какое-то смятение вдруг охватило его, будто между ними существовала некая таинственная связь, которой суждено было окрепнуть или оборваться от первой этой встречи. Сначала он удивился, что она вовсе не так красива, как он ее себе представлял. Во внешности Изольды и в самом деле было больше благородства, нежели красоты. У нее была изящная головка, нежный овал лица, высокий лоб, тонкие черты, но ничего яркого, поражающего. В ней не было на первый взгляд никакого особого очарования. И, однако, нужно было только пристально вглядеться, чтобы понять, что она просто не дает себе труда проявлять его, и стоит только небольшим черным глазам ее оживиться, а губам улыбнуться, как хрупкая эта девушка вдруг обнаруживала всю таящуюся в ней женственную прелесть. Но, словно умышленно, она пренебрегала искусством женского обольщения и сообразно этому одевалась в темные платья без всяких украшений, а волосы носила гладко причесанными, двумя полукружиями спуская их на уши. И все же, вопреки всей этой намеренной строгости облика, в ней таилось очарование, непреодолимое для тех, кто способен был бы разгадать ее, однако понять это было не так просто, а с первого взгляда и вовсе невозможно.
Пьер Гюгенен смотрел на нее и вдруг встретил ее взгляд, взгляд почти оскорбительный, настолько был он невозмутим и безразличен к нему, Пьеру. Покраснев, Пьер быстро отвел глаза; его словно холодной водой облили; он почувствовал глубокое разочарование. Нет, хозяйка башенки не показалась ему неприятной или отталкивающей; но это холодное равнодушие в столь юной девушке так непохоже было на все его представления о ней, на все его мечты! Он не знал, как ему теперь относиться к ней — просто ли как к болезненной девочке или как к бесчувственному существу, чья душа навсегда поражена изнуряющим недугом равнодушия. Потом он подумал, что не все ли ему это равно, раз он никогда о ней ничего больше не узнает, может быть, никогда больше и не увидит ее, и ему уже никогда не придется встретиться с ней глазами; и почему-то ему стало от этого грустно, словно его внезапно лишили жившей в нем надежды на помощь некоего совершенного, всесильного, хотя и никогда не виденного прежде существа.
Между тем граф подошел ближе к работающим и стал внимательно рассматривать замененные куски панели.
— Превосходная работа, — сказал он, — просто выше всяких похвал. Но уверены ли вы в том, что это хорошее дерево, господа?
— Конечно, с тем, из которого сделана старая панель, его не сравнить, — отвечал ему Пьер, — но через двести лет и оно будет таким, а вот старое, может, до того времени и не продержится. Но за одно могу ручаться: оно не покоробится и вида панели не испортит. А если даже треснет где какая доска или расколется филенка (только это навряд ли!), я заменю ее за свой счет, так что никто и не заметит.
— Но если вдруг окажется, что вы ошиблись в качестве дерева и придется работу сызнова начинать, что тогда? — спросил граф.
— Тогда я поставлю другое дерево и переделаю все заново за свой счет, — ответил Пьер.
— Ну раз так, — сказал граф, поворачиваясь к внучке и как бы призывая ее в свидетели, — нужно, я полагаю, довериться опыту и знаниям этих людей. А работаете вы превосходно, господа, я даже не представлял себе, что можно с такой точностью воспроизвести старые образцы.
— Заслуги тут особой нет, — сказал на это Пьер, — добросовестная работа ремесленника, не более того. А вот тот, кто когда-то создал этот образец, — вот уж поистине художник… Какой вкус, какая фантазия, какое искусство формы, простой и в то же время изящной. Нынче это искусство вовсе у нас утрачено.
В глазах графа мелькнуло удивление, он стал легонько пристукивать своей тростью по полу, как это делал обычно, когда бывал чем-либо приятно поражен. Папаша Гюгенен знал эту его манеру и понял, что граф доволен.
— Но нужно самому быть истинным художником, чтобы понять это и выразить так, как это сумели сделать вы, — сказал граф.
— Да, все мы притязаем на это звание, — отвечал Пьер, — но, в сущности, уже его не заслуживаем. Хотя, — поправился он вдруг, повернувшись к Амори, — вот кто настоящий художник. Он занимается тем, что принято называть столярничанием, потому что должен зарабатывать себе на хлеб, но он мог бы создавать такую же красоту, как вот эта, здесь на старой панели. Если вы собираетесь когда-нибудь отделать одну из зал замка скульптурными украшениями, вам, право, стоит взглянуть на его рисунки. Он их делал для собственного удовольствия в часы досуга, но, думаю, даже знатоки не отвергли бы их.