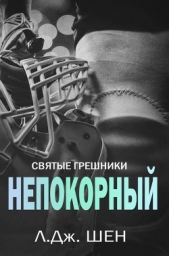Покойный Маттио Паскаль

Покойный Маттио Паскаль читать книгу онлайн
Луиджи Пиранделло написал несколько романов. Самым известным из них является «Покойный Маттиа Паскаль» (1904).
Герой романа ведет унылое существование в провинциальном городке, находясь на нищенском жалованье библиотекаря и проводя время среди пыльных книг, которых никто не читает, и мышей. Семейные дрязги, смерть детей, одинокие прогулки по пляжу, чтобы хоть как-то убить время и отделаться от скуки, и, конечно, мечты об освобождении. Неожиданно случай помогает Маттиа – он выигрывает в рулетку крупную сумму денег. Он думает уехать в Америку, чтобы обрести свободу. И снова случай помогает ему – из газет он узнает, что в его родном городке найден утопленник, в котором жена и родные опознали Маттиа. Мечты о свободе как будто становятся реальностью…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«А если это он? – подумалось мне. – А если он пришел сюда, чтобы отомстить мне, раскрыв мою тайну?» Между тем синьор Палеари, единственный из всех нас, кто не ощутил ни страха, ни удивления, никак не мог уразуметь, почему столь простое и обычное явление, как левитация столика, так взволновало нас, уже присутствовавших при самых разнообразных чудесах. С его точки зрения, было совсем несущественно, что это явление произошло при свете. Он гораздо больше удивлялся тому, что Шипионе оказался здесь, в моей комнате, – ведь он-то думал, что мальчик уже лег спать.
– Меня это удивляет, – сказал он, – потому что обычно бедняга ни на что не обращает внимания. Очевидно, наши таинственные сеансы вызвали у него некоторое любопытство; он отправился подсмотреть, что у нас делается, потихоньку вошел – и вот… бац! Попался! Ибо нет сомнения, синьор Меис, что необыкновенные явления медиумизма возникают весьма часто через посредство невропатов-эпилептиков, каталептиков, истериков. Макс берет ото всех, он заимствует и у нас значительную часть нашей нервной энергии, используя ее для спиритических явлений. Это же твердо установлено! Разве вы, например, не ощущаете, что у вас тоже кое-что взято?
– По правде сказать, пока не ощущаю.
Почти до утра ворочался я на кровати, все время представляя себе несчастного, погребенного под моим именем на кладбище Мираньо. Кто он был? Откуда явился? Почему покончил с собой? Может быть, он хотел, чтобы о его печальном конце стало веем известно; может быть, это было возмездие, искупление… А я использовал его в своих целях!
Признаюсь, я не раз леденел от страха во мраке ночи. Ведь не я один слышал удар кулаком по столику тут, в моей комнате. Не он ли нанес его? А может быть, он и сейчас здесь, со мной, молчаливый, невидимый? Я весь обращался в слух, если мне случалось уловить в комнате какой-либо звук. Потом я заснул, но меня тревожили страшные сны. На следующий день я открыл окна и впустил в комнату дневной свет.
15. Я и моя тень
Нередко, когда я просыпался, как говорится, в самом сердце ночи (в данном случае ночь проявляла себя довольно бессердечной), мне случалось переживать в окружавшем меня молчании и мраке минуты странного удивления, странного смущения при воспоминании о чем-либо, что я делал при свете дня, даже не замечая, что именно я делаю. И тогда я задавал себе вопрос: не определяются ли наши действия зримым обликом окружающих нас вещей, их окраской, многоголосым звучанием жизни? Да, разумеется, определяются и этим, и еще очень многим другим. Не находимся ли мы, как полагает синьор Ансельмо, в общении со всей вселенной? И нам следует подумать о том, сколько же глупостей заставляет нас делать проклятая вселенная, глупостей, в которых мы потом обвиняем нашу несчастную совесть, а ведь ее понуждают к этому внешние силы, ослепляя ее бьющим извне светом. И наоборот, сколько принятых ночью решений, сколько тщательно разработанных замыслов, сколько задуманных хитростей оказываются нелепыми, рушатся, рассеиваются при свете дня? Как день и ночь – вещи совершенно различные, так, может быть, и мы днем одни, а по ночам совершенно другие, но – увы! – при всем том жалчайшие создания – как днем, так и ночью.
Знаю одно: я не ощутил никакой радости, когда после сорока дней, проведенных во мраке, вновь открыл окна моей комнаты и увидел дневной свет. Его грозно затемнило воспоминание о том, что я делал, пока жил в темноте. Все доводы, оправдания и убеждения, имевшие вес и цену в темноте, утратили их или обрели противоположное значение, едва распахнулись окна. И тщетно то несчастное «я», которое столько времени жило за закрытыми ставнями и изо всех сил старалось облегчить себе неистовую тоску заключения, теперь, словно побитая собака, терлось, хмурое, суровое, возбужденное, возле того, другого «я», которое распахнуло окно и вставало навстречу дню. Тщетно стремилось оно оторвать своего двойника от мрачных мыслей, уговаривая его подойти вместо этого к зеркалу и порадоваться счастливому исходу операции, отросшей бороде и даже бледности, которая в известном смысле облагораживала меня.
«Болван, что ты наделал, что ты натворил!»
Что я наделал? Да, по правде говоря, ничего. Занимался любовью. Во мраке – моя ли это вина? – мне показалось, что никаких препятствий уже нет, и я утратил навязанную мне сдержанность. Папиано хотел отнять у меня Адриану, а бедняжка Капорале вернула мне ее, усадив рядом со мной, и за это получила удар кулаком по лицу. Я страдал и, естественно, считал, как всякий другой страдалец (такова уж человеческая природа), что имею право на некое возмещение. А так как это возмещение было рядом, я его взял. Тут занимались всякими экспериментами с миром мертвых; Адриана же, сидевшая рядом со мною, была сама жизнь, только и ждавшая поцелуя, чтобы распуститься в лучах радости. К тому же Мануэль Бернальдес поцеловал ведь в темноте свою Пепиту, и, значит, я тоже…
– Ах!
Я закрыл лицо руками и бросился в кресло. Губы мои дрогнули, когда я вспомнил об этом поцелуе. Адриана! Адриана! Какие надежды зажег я в ее сердце этим поцелуем! Она – моя невеста. Неужели? Окна распахнуты, пир на весь мир!
Уж не знаю, сколько времени сидел я так в кресле и то закрывал рукой глаза, то весь внутренне сжимался в диком смятении, словно защищаясь от острой душевной боли. Теперь мне наконец все стало ясно: стало ясно, какую жестокую шутку сыграл со мной мой же самообман и чем в конце концов оказалось то, что представлялось величайшим счастьем мне, опьяненному внезапным освобождением.
Я уже узнал на опыте, насколько моя свобода, не имевшая, казалось, границ, на самом деле, к сожалению, ограничена скудостью моих денежных средств. Затем я начал отдавать себе отчет и в том, что эта самая свобода может с гораздо большим основанием именоваться одиночеством и скукой и что она осуждает меня на жестокую кару – довольствоваться своим собственным обществом. Я стал искать общения с другими людьми. Но чего стоило мое намерение ни в коем случае, пусть даже очень слабо, не завязывать вновь разрезанных нитей? Ничего не стоило – эти нити сами собой завязались. И жизнь, как я ни сопротивлялся ей, чувствуя, что дело уже неладно, жизнь, на которую я уже не имел права, увлекла меня в своем неудержимом порыве. Да, я отдавал себе в этом полный отчет теперь, когда не мог уже, прибегая ко всевозможным нелепым доводам, почти ребяческим ухищрениям и жалким, мелочным оправданиям, не сознавать своего чувства к Адриане, затушевать перед самим собой свои собственные намерения, слова, действия. Не произнося ни слова, я сказал ей слишком многое, когда сжимал ей руки, вынуждал ее пальцы переплетаться с моими. И наконец нашу взаимную любовь скрепил, запечатлел поцелуй. Но как мне теперь выполнить данное таким образом обещание? Могла ли Адриана стать моей? Ведь это меня бросили в мельничную запруду там, в Стиа, две милые женщины – Ромильда и вдова Пескаторе. Не они же сами туда бросились! Свободной поэтому оказалась моя жена, а вовсе не я, устроившийся на положении покойника и вообразивший, что могу стать другим человеком, зажить другой жизнью. Стать другим человеком – да, но при одном условии: ничего не делать! И каким человеком! Тенью человека! Зажить другой жизнью? А какая это жизнь? Да, пока я довольствовался тем, что, замкнувшись в себе, созерцал, как живут другие, я мог хорошо ли, худо ли сохранять иллюзию, будто зажил другой жизнью. Но теперь, когда я вошел в эту жизнь настолько, что сорвал поцелуй с дорогих мне уст, я должен был в ужасе оторваться от них, словно поцеловал Адриану устами мертвеца, который не мог воскреснуть ради нее. Да, я мог бы позволить себе поцеловать продажные губы, но дадут ли они ощутить радость жизни? О, если бы Адриана, зная о моих странных обстоятельствах… Она? Нет, нет, что я! И думать об этом нельзя! Она, такая чистая, такая робкая… Но если бы все же любовь в ее сердце оказалась сильней всего, сильней любых соображений о том, что принято и не принято в обществе… Ах, бедная Адриана, мог ли я втянуть ее в пустой круг моей судьбы, сделать ее подругой человека, который ни под каким видом не смеет заявить о себе открыто, признаться, что он жив? Что делать? Что делать?