Том 4. Травой не порастет ; Защищая жизнь
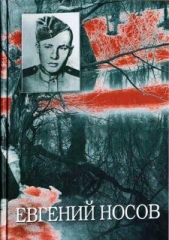
Том 4. Травой не порастет ; Защищая жизнь читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да куда ж ты его такого-то? Степанидка!
— А чего с ним теперь! — отозвалась бледная, намучившаяся тащить Степанидка, озираясь по обе стороны.— Знал, паразит, чего делал? Нехай теперь срамотится. Я уж и язык об него излаяла.
— Может, его водицей полить, охолонуть? К колодезю б сперва…
— К-каво? — вскинулся Кузька.— Мне к колодезю? Ха!.. Н-на дворе большой колодезь… упаду — не вылезу… Ежли выпить не дадите… я помру — не вынесу…
— Иди, горла! — дернула его Степанида под руку.— Токмо бы хлебал… Разинь пузыри: все люди как люди, а ты аггел беспамятный.
Позади Кузькиной свиты, чуть поотстав, давая ветру отнести на сторону поднятую ногами пыль, шла, шамкая юбкой, тыча дорогу клюкой, долгая сухая старуха в черной суконной шали — мать Кузьмы. Она шла, ни на кого не глядя, не слушая, а может, никого и ничего не слыша…
Кто-то, однако, сбегал до правленческого колодца, отцепил ведро, и Кузьку окатили-таки, намыли голову, а потом положили за конторой в тенек, не давая ему шутоломить, появляться перед окнами.
Между тем народ подобрался, подошли последние, кому должно тут быть, и Касьян отвертел шею, высматривая, пока наконец на конторском въезде не объявилась Натаха с обоими ребятишками. Касьян еще издали узнал ее не столько по голубой просторной кофте в розовую повитель, сколько по тому, как двигала-совала она ногами, широко ставя их от себя и переваливаясь с боку на бок, как зобастая утица. Митюнька, взлетывая на встречном ветру белыми волосенками, скакал бочком, будто пристяжной, об руку с матерью, Серенька шмыгал новыми штанами сам по себе.
Давно ли из дому, но вздрогнуло все в Касьяне при виде своих на этом куске дороги, как если бы глядел он из дверей эшелона, что уже стоял под парами, вот-вот должен был лязгнуть крюками и отойти. Он торопил Натаху глазами и даже помахал кепкой, но, не выдержав, сам поспешил навстречу.
— Папка-а! — звеня голосом, ликуя, не веря, закричал Сергунок, выплескивая все разом в своем восклицании. В одном только слове, которое в эту минуту сделалось главным, единственным, заменившим все остальные ненужные слова, ровно бы забытые начисто, и, как тогда, на сенокосе, первым сорвался бежать и, добежав, повис на руке, засматривая в лицо Касьяна, повторяя уже умиротворенней, со счастливым облегчающим всхлипом: — Папка…
— А я жду, а вас нету и нету,— сквозь терпкую горечь проговорил Касьян.— Нету и нету…
Тут же налетел Митюнька, молча, должно быть в подражание старшему, обхватил и повис на другой отцовской руке, и Касьян, связанный, распятый ребятишками, так и стоял посередь дороги, пока не подошла Натаха.
— А где же мать? Мать-то чего?
— Ох, да ну ее! — перевела она дух.— Сичас да сичас… Чегой-то ищет… Говорит, идите пока… Ну чего тут у вас? Скоро ли?
— Да вот ждем… Уже небось десять, а пока ничего.
На выгоне Касьян определил их в сторонке на непримятой траве, но не успел, присев рядом, искурить папироску, как на крыльце появился Прошка-председатель вместе с прибывшим лейтенантом. Тут и там толпившиеся люди ожили, повалили к конторе, и Касьян, предупредив: «Пока тут будьте», направился к крыльцу и сам, тянясь шеей, заглядывая поверх голов.
Прошка-председатель был в своей низко насунутой кепочке, все в том же куропатчатом обвислом пиджаке, но в свежей белой рубахе, наивно, по-детски застегнутой под самый выбритый подбородок.
Рядом с ним у перил остановился непривычный для здешнего глазу, никогда дотоль не бывавший в Усвятах военный, опоясанный по темно-зеленой груди новыми ремнями, в круглой, сиявшей козырьком фуражке и крепких высоких сапогах, казавшийся каким-то странным, пугающим пришельцем из неведомых обиталищ, подобно большой и непонятной птице, вдруг увиденной вот так вблизи на деревенском прясле. Смугло выдубленное лицо его было сурово и замкнуто, будто он ничего не понимал по-здешнему и Прошка был при нем за переводчика.
Прошка-председатель пошатал руками перило, взад-вперед покачался сам, выжидая, пока подойдут остальные, и, когда воцарилась тишина, сказал:
— Значит, так, товарищи… Ну, зачем вы тут — все знаете. Так что говорить лишнее не стану. На прошлой неделе мы проводили в армию первых семнадцать человек. Я и сам тади думал, что этого, может, и хватит и мы с вами будем по-прежнему работать и жить за минусом тех семнадцати. Но дело заварилось нешутейное, тут таить нечего, понимаешь… Приходится, стало быть, нам еще пособлять…
Прошка-председатель достал из-за края пиджака какие-то листки, заглянул в них.
— Повестки уже розданы, но мы тут с представителем военкомата еще раз поуточняли, чтобы, значит, никакой путаницы…
Говорил он каким-то серым голосом, пересовывая листки бумаги, будто они жгли ему пальцы,— нижние наперед, верхние под низ, потом опять все сначала.
— Пойдете отсюда организованно, чтоб не тащиться одним по одному, не затягивать время. Так что слушайте теперь вот его, вашего командира, и все его исполняйте. У меня пока все.
Он сунул листки в руки лейтенанта, нетерпеливо прошелся у него за спиной, остановился, передвинул кепку, еще раз прошелся и, подойдя к перилам, опять пошатал их обеими руками.
Листки, должно, были сложены неправильно, потому что молчаливый лейтенант взялся неспешно, с давящей обстоятельностью наводить в них какой-то свой порядок: опять положил верхнюю бумажку под низ, нижнюю — сверху, а ту, что была до того наверху, заложил в середину. После чего без всяких предварительных слов и пояснений сразу же выкрикнул:
— Азарин!
С ответом почему-то не поспешили, возможно, потому, что уж слишком вдруг было выкликнуто,— по пальцу ударь — и то не сразу больно, а сперва лишь удивительно,— и лейтенант, оторвавшись от бумаги, переспросил:
— Есть такой? Эм… Вэ?
— Есть! — послышался встревоженно-оробелый отклик.
— Азарин! — повторил опять лейтенант и прицелисто поводил по площади строгими глазами.
— Я! Я! — поспешил объявиться вызванный.— Тут я.
— Азарин, три ш-шига вперед!
Из толпы, весь в смущении, с растерянно-виноватой улыбкой на опаленно-красном дробном лице, бормоча сам себе «иду, иду», протолкался невеликий мужичонка, по-уличному Митичка, числившийся скотником на усвятской молочной ферме.
— Тэ-эк…— протянул лейтенант, помечая что-то в листке карандашом.
Митичка, стоя перед крыльцом, стесняясь своего на виду у всех одиночества, продолжал улыбчиво озираться, перебирать парусиновыми туфлишками — вертелся, будто червяк, выковырнутый из земли.
— Азарин, смир-р-но! — вдруг резко скомандовал лейтенант, которому, видимо, была неприятна и оскорбительна такая разболтанность, и вздрогнувший Митичка враз замер навостренным коростелем — крылья по швам, клюв кверху.
Лейтенант внимательно, изучающе посмотрел на Митичку, как бы оценивая материал, с которым придется работать, и, опять сказав «тэк», уткнулся в бумагу.
— Витой!
— Я Витой! — готово отозвался Давыдко.
— Три ш-шига вперед! В одну ширенгу стынови-и-ись!
Давыдко провористо выбежал, пристроился к Азарину и поровнял по его парусиновым туфлям с коричневыми, как у жуков, нососпинками свои юфтевые ботинки.
— Горбов!
— Есть Горбов,— раздался сдержанный бас с покашливанием. Крупным тяжелым шагом выступил Афоня-кузнец в своей особой, афонинской одеже: старом, жужелично лоснящемся пиджаке, негнуче вздутых штанах, тускло поблескивающих на коленках, заправленных в разлатые сапожищи. Свою белую сумку из подушечной наволочки он никуда не сдавал, словно бы позабыл о ее существовании за широченной сутулой спиной, и та уже успела вымараться пиджачной смагой.
Лейтенант дольше, чем предыдущих, осматривал Афоню, даже обернулся с каким-то вопросом к ходившему позади него Прошке-председателю и, ставя против Афониной фамилии энергичный отчерк, дважды повторил свое «тэк».
Вскоре подобрали Николу Зяблова, который тетешкал, успокаивал раскапризничавшегося неходячего младенца, мешавшего ему слушать фамилии. Намаявшись и от мальчонки, и от ожидания своего вызова. Никола, когда его наконец окликнули, даже позабыл отдать жене пацана, а так и шагнул было в строй вместе с дитем, отчего народ маленько развеселился, посмеялся этому курьезу. Потом через несколько человек вызвали Матюху Лобова, ожидавшего череда с перекинутой через плечо гармошкой. И сразу за его спиной завыла Матюхина Манька — с таким же, как и у Матюхи, носом розовой редисочкой, с упавшим на плечи платком,— замахала обеими руками, будто отбивалась от налетевших оводов:

























