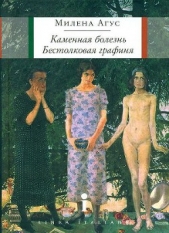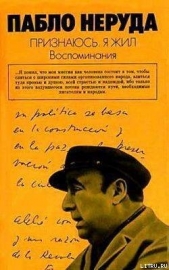Динарская бабочка

Динарская бабочка читать книгу онлайн
Рассказы Эудженио Монтале — неотъемлемая часть творческого наследия известного итальянского поэта, Нобелевского лауреата 1975 года. Книга, во многом автобиографическая, переносит нас в Италию начала века, в позорные для родины Возрождения времена фашизма, в первые послевоенные годы. Голос автора — это голос собеседника, то мягкого, грустного, ироничного, то жесткого, гневного, язвительного. Встреча с Монтале-прозаиком обещает читателям увлекательное путешествие в фантастический мир, где все правда — даже то, что кажется вымыслом.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Если в меню значится, например. Irish stew, приторное месиво из вареной баранины, моркови и консервированного горошка, лжеангличанин будет накалывать на вилку каждый кусочек мяса, каждый кружок моркови, каждую горошину, с благоговением отправляя их в рот, как если бы он был настоящим англичанином и у себя в Англии уплетал по утрам, чуть свет, копченую сельдь и овсяную похлебку.
Лжеангличанин курит голландские сигары и пьет кофе, какой ему приносят, не требуя кофейного фильтра. Утопая в кресле, он проводит вторую половину дня за чтением очерков о бернской олигархии XVIII века и об отношении к ней великого английского историка Гиббона, прилежно просматривает новости в «Газетт де Лозанн», не забывая и траурные извещения, и иной раз заканчивает день, листая книгу из гостиничной библиотеки, что-нибудь самое безобидное вроде Уилки Коллинза [191] или Уйды [192]. Лжеангличанин со всеми вежлив и ни с кем не разговаривает, из его уст исходит лишь признательное «кью», если кто-нибудь из иностранцев или соседей по столику оказывает ему знак внимания. Лжеангличанин облачается вечером в тот черный костюм, который итальянцы — не англичане — называют «смокинг», и чувствует себя в нем непринужденно, как будто не снимал его годами. В новогоднюю ночь лжеангличанин смотрит, как танцуют другие, но сам не танцует — либо не умеет, либо ни с кем не знаком.
Он заказывает ведерко с бутылкой шампанского брют, позволяет надеть себе на голову шапочку из цветной бумаги, подносит к губам рожок и трубит в него вместе со всеми, обвитый серпантином, блаженно-отупелый. Когда бьет полночь, оркестр смолкает, зал на мгновение погружается в темноту, все присутствующие встают и поднимают бокалы, хлопают пробки, начинаются объятия, тосты, поздравления, лжеангличанин тоже встает, берет за ножку бокал и пьет за собственное здоровье или за кого-нибудь из отсутствующих. После этого, если танцы возобновляются, он с достоинством выходит из-за стола, роняет благодарное «кью», когда ему уступают дорогу, еще одно «кью» — мальчику-лифтеру, открывающему ему дверь, и с достоинством отправляется к себе в номер.
На следующий день, в строгом сером костюме, он в числе первых спускается к breakfast [193]. Всем своим видом он показывает, что примирился со скудной «континентальной» трапезой без porridge [194] и обязательных колбасок, вынужденный довольствоваться чаем и ломтиками хлеба с маслом. В холле пусто: остальные обитатели гостиницы либо еще спят, либо отправились, наряженные в медведей, к фуникулерам. Лжеангличанин вытягивается в кресле и вынимает закладку из старого скучнейшего английского романа. Он смотрит на порхающие за окнами снежинки, тщетно силится прикурить сигару, вертя в руках вечно ломающуюся lighter [195], чиркает спичкой о коробок, подносит пламя к сигаре, ароматный дым образует вьющуюся струйку. Лжеангличанин склоняет голову, читает, плавает в дыму, спит, видит сны. Завтра он уедет. Куда? Это известно одному мне.
Я не знаю имени этого человека, которого иногда встречаю на улицах Милана, где он превращается в словоохотливого и раздражительного миланца. Не знаю, догадывается ли он, что уже несколько лет я вотще изо всех сил пытаюсь ему подражать. Я не знаю, бывал ли он когда-нибудь в Англии и испытал ли он там ту восхитительную скуку, какую испытал я. Знаю только, что в ассоциации лжеангличан, если бы таковая вдруг возникла, президентом по праву стал бы он, вице-президентом — я.
ПОЛЕТ ЯСТРЕБА
Идет проливной дождь. За колодцем двора, над головокружительными зигзагами крыш высится ветвистое голое дерево. Завеса дождя то скрывает, то открывает его, превращая попеременно то в резкий офорт, то в бледную пастель. На самую высокую ветку опускается с неба черная точка, и кривая тоненькая веточка гнется под ее тяжестью. Судя по согнутой ветке и темному силуэту на фоне серого неба, это не пичужка, а крупная птица. Другие птицы, разрезающие нити дождя, — воробьи или ласточки — выглядят куда более мелкими точками. Нет, на верхушке дерева сидит не воробей и даже не голубь, птица ринулась вниз стремительно, очертив зубчатыми просветами контуры крыльев. Она выгибается и клюет собственный хвост, который кажется очень длинным, и веточка служит ей качелями. Если пристально смотреть на птицу, она растет: она почти заслонила собой взъерошенные ветви. А дерево гигантское, должно быть, вековое, его видно из стольких окон. Возможно, я один заметил небесного гостя, а может, нет… И впрямь, я словно улавливаю внутренним слухом множество чужих голосов, которые слышу впервые и которые скорей всего никогда больше не услышу.
— Это почтовый голубь, это залетная сорока, это утка, — чуть не хором говорят жильцы на пятнадцатом этаже оранжевого небоскреба.
— Неужели пустельга? Трудно сказать — я не вижу клюва. Дай-ка мне бинокль, Адальджиза, — говорит натуралист, угнездившийся в «голубятне» на улице Боргоспессо.
— Ворон Эдгара По, — говорит старик художник с улицы Бильи, 17, иллюстрировавший это стихотворение тридцать лет назад.
— «Ты не можешь погибнуть, бессмертная птица!» — говорит в апартаментах на улице Пьетро Верри лысый человек, специалист по английской литературе, дважды не прошедший по конкурсу на замещение должности приват-доцента. — Кто это написал? Китс или Шелли? Паскуалина, будь добра, подай мне ту желтую книгу на камине. Жаворонок или соловей? Нет, по размеру больше похоже на курицу. «Ты не можешь погибнуть…» Проклятье! Подумать только, ведь меня прокатили из-за этого самого стихотворения…
— Вроде бы павлин. Но как он мог очутиться наверху? — говорит дворецкий на улице Сант-Андреа. — Иди посмотри, Аннетта. Брось, не ломайся, побудь немножко со мной, пока хозяев нет дома. Ты когда-нибудь ела павлина?
Возня, чмоканье (возможно, поцелуй), пререкания.
— Это ястреб, — говорит женский голос в доме, что стоит сразу за моим. — Молодой, счастливый… И свободный. Он волен летать, куда захочет. Он не боится урагана, не знает мороки, забот, обязательств. Летает себе и живет. Скоро он будет в Кодоньо, потом в Парме, потом в Сицилии. Он садится на дерево, и никто не спрашивает у него документы. Кормится, чем придется — травой, мышами, насекомыми, пьет эликсир из розовых листьев — напиток нежнее шабли. Это бог — одетый перьями, но все равно бог. Честное слово, это ястреб. Хотела бы я быть на его месте!
— Ты что, рехнулась? — говорит мужчина, должно быть, рядом с ней. — Ястребы живут в горах, из них делают чучела, какие же они счастливые? Держу пари, это всего-навсего сойка, бедная старая сойка, которую, может, через несколько часов подстрелит охотник. А она к тому же и несъедобная. Ну что ты там ворчишь? Лучше один час свободы, чем рабская жизнь? Дурацкая романтика! Небось по воскресеньям, когда ты не идешь на службу, ты чувствуешь себя не в своей тарелке, умираешь от скуки! Человек взваливает на себя бесконечные обязанности, бросается в море невзгод, чтобы познать радость победы над ними. Человек культивирует собственное несчастье ради удовольствия мало-помалу превозмогать его. Быть постоянно чуточку несчастными — вот условие sine qua non [196] маленького промежуточного счастья. Я читаю тебе лекцию? Дура! Что бы ты делала на дереве, мокрая насквозь и… без меня? Может, ты хочешь в Кодоньо, на Сицилию? Ах, так? И ты смеешь мне это говорить? Ну что ж, попробуй. Лети! Попробуй полетать, идиотка несчастная!
Порыв ветра с дождем ударяет в стекла, так что они дребезжат, и сотрясает дерево. Взмахнув крыльями, ястреб отделился от ветки, теперь он вырисовывается на фоне неба геральдическим знаком и вдруг, метнувшись, исчезает среди самых высоких крыш. Он снова в пути. Ветка, где он сидел, еще долго качается. Дождь шумит сильнее. Слышны голоса ссорящихся, но слов я не разбираю. Затем уже знакомый мужской голос говорит: