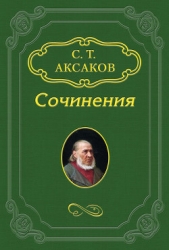Гоголь-студент

Гоголь-студент читать книгу онлайн
«Он катил домой на вакации – уже не гимназистом, как бывало до сих пор, а студентом, хотя в той же все нежинской „гимназии высших наук“, то есть с трехлетним, в заключение, университетским курсом.
Снова раскинулась перед ним родная украинская степь, на всем неоглядном пространстве серебристого ковыля она так и пестрела полевыми цветами всех красок и оттенков, так и обдавала его их смешанным ароматом, так и трепетала перед глазами, звенела в ушах взвивающимися по сторонам коляски кузнечиками – бирюзовыми, серыми и алыми…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И глаза его при этом опять самоуверенно заблестели, «воробей» приосанился «орлом».
Подбежавший в это время слуга доложил молодым господам, что лошади поданы. Безвестные пока юноши обнялись и распростились, чтобы встретиться уже много-много лет спустя знаменитостями.
Глава двадцать третья
Дядя Петр Петрович
По возвращении своем в Васильевку Гоголь застал там за завтраком дядю Петра Петровича Косяровского, также вернувшегося только что из Полтавы [34]. Но пока ему было не до дяди; надо было привести в порядок сделанные в карманной записной книжке летучие заметки и разнести их по соответствующим рубрикам «подручной энциклопедии» [35].
На этот раз пополнение «энциклопедии» производилось с «прохладцей» благодаря заботливости Марьи Ивановны о своем ненаглядном Никоше, на столе стояла полная тарелка крупных шпанских вишен, и между двумя записями он делал всякий раз маленькую паузу, чтобы уничтожить десяток сочных ягод. Когда последняя заметка нашла себе требуемое место – и последняя вишня была пристроена.
Оставалось только перевести из карманной книжки чернилами в особую тетрадку и набросанный вчерне стихотворный отрывок. Но, перечитывая его вновь, автор был им уже недоволен. Грызя бородку гусиного пера, он погрузился в глубокую думу. Рука его машинально потянулась опять к тираде, но вместо вишен обрела там одни косточки и принялась складывать из них на столе букву за буквой. Незаметно вошедший в комнату Петр Петрович прочел готовые уже два слова: «Николай Гоголь».
– Нашел занятие! – сказал он. – Не такое уже у тебя блестящее имя, чтобы им любоваться.
– Чего нет, то может статься, – не то шутя, не то серьезно отвечал племянник, пряча свои рукописи в ящик стола, – не имя красит человека, а человек – имя.
– А ты чем это – не стишками ли своими увековечить себя хочешь?
И с этими словами Петр Петрович наклонился над двумя книгами, лежащими на столе раскрытыми еще со вчерашнего утра.
– Это что? Немецкие стихи! А это? Русские.
– Да, я сличаю перевод с оригиналом.
– Понимаю: вдохновляешься чужим вдохновением за неимением собственного? Посмотрим, что это за штука: «Luise. Ein landliches Gedicht in drei Jdyllen von Johann Heinrich Voss». (Луиза. Сельское стихотворение в трех идиллиях Иоганна Генриха Фосса). А перевод чей? Теряева. Никогда, ей-ей, ни про автора, ни про переводчика не слышал!
– А между тем Фосс один из первых немецких идилликов.
– По мнению вашего профессора Зингера? Да вот и надпись: «Ex libris T.J. Singeri». И чтобы книжку ему не запачкали – как аккуратно ее, вишь, в сахарную бумагу обернул и сургучом опечатал! А пишешь ты что: тоже идиллию? Ага! Покраснел. Стало быть, верно. Ну что ж, одно другому не мешает. Державин не только стихи писал, но был и губернатором. Дмитриев даже министром.
– Но для меня, дяденька, этого мало.
– Этого даже мало?
– Да, или все, или ничего! Для меня нет ужаснее мысли, что я живу в мире и ничем замечательным не ознаменую своего существования!
– Чего ужаснее? Но покамест не поймаешь журавля в небе, не мешало бы тебе обеспечить себе хоть синицу в руке. Мы с маменькой твоей только что толковали о том, что тебе следовало бы наконец съездить в Ярески: протекция «кибинцского царька» может быть тебе впоследствии весьма и весьма полезна.
– Какая же это, дяденька, синица? Это мастодонт, мегалозавр! Но мне к нему, право, так не хочется! Хоть бы в компании с вами…
– Нет, мой друг, прости: был я там раз – и довольно.
– Ах ты, Господи! Подождать разве дядю Павла Петровича…
– Не дождешься. Кто его знает, где он теперь летает? Между тем Трощинский уже второй месяц как перебрался в свою летнюю резиденцию, а ты все еще не побывал у него. Завтра же поезжай.
– Нет, завтра, дяденька, я еще не поеду. Нынче ведь только вернулся из гостей… И потом, мне необходимо еще кое-что дописать…
– «Необходимо»! Из-за этой белиберды ты вот пренебрегаешь элементарными правилами приличия. Завтра же, говорю я тебе, ты отправляешься в Ярески.
Не произнеси этого дядя так безапелляционно, а главное – не назови его стихов «белибердою», молодой поэт, быть может, еще дал бы себя урезонить, но теперь уязвленное авторское самолюбие не позволило уже ему уступить.
– Завтра я во всяком случае не поеду! – объявил он не менее категорически и, с шумом отодвинувшись от своего письменного стола, зашагал взад и вперед по комнате.
Дядя, скрестив на груди руки, безмолвно следил за ним глазами; потом вдруг подошел к столу, повернул торчавший в замке ключ дважды и спрятал его себе в карман.
– Ранее ты не получишь ключа, пока не побываешь в Яресках, – холодно заявил он племяннику и прошел к себе.
За обеденным столом они снова встретились; но тогда как Косяровский не показывал и вида, что между ними произошла размолвка, Гоголь, при всем своем старании казаться равнодушным, избегал глядеть на дядю и вообще был так молчалив, что обратил внимание матери.
– Тебе, Никоша, видно, неохота ехать к Дмитрию Прокофьевичу, – догадалась она сразу.
– Напротив, он горит нетерпением и не может дождаться завтрашнего дня, – отвечал за племянника с улыбкой Петр Петрович. – Но он надеется, что маменька возьмет его под свое крылышко.
Марья Ивановна испуганно отмахнулась обеими руками.
– Нет, нет, мои милые, увольте меня! Для меня нет ничего мучительней этой веселой компании у нашего благодетеля. Того гляди, заставят опять танцевать.
– Вас, сестрица? Когда ж вы там танцевали?
– А не далее как прошлой осенью на свадьбе повара Василия. Сам Дмитрий Прокофьевич открыл бал с молодою; тут и мне нельзя было отказаться идти с молодым. Потом, разумеется, все танцевали разные танцы, русские и малороссийские.
– Все благородные девицы и кавалеры?
– Да, но только вначале для проформы, из угождения хозяину. После отличалась одна прислуга, а перед всеми прочими Сашка с Орькой.
– Это кто же?
– Тоже свои крепостные: Сашка – капельмейстер домашнего оркестра, а Орька – старшая швея и якобы кастелянша; егоза, но, надо признаться, писаная картинка, когда этак брови подведет, лило набелит, нарумянит. Выскочил это Сашка с палочкой в руке, наряженный петиметром, и пал на колени перед Орькой. Уж какие он тут странности перед нею не выделывал! То поднимется, то опять бух на пол, а она вокруг, как перепелочка, порхает да летает. Дмитрий Прокофьевич обернулся ко мне и говорит: «Можно ли, Марья Ивановна, скажите, на наших балах иметь столько удовольствия, как мы теперь имеем? Эй, мазурку!» И вся ватага давай танцевать мазурку в карикатурном виде. Подобрав полы своей рясы, и старый шут Варфоломейка пошел в присядку, а один из приживальцев хлоп его ладонью по плеши: «Попляши!» Ну, хохот, грохот кругом еще пуще… О-хо-хо! Нет уж, эти потехи не по мне…
– И не по мне, – брезгливо сказал Петр Петрович. – Но тем не менее, по старой пословице: всякая вологодская пивоварня имеет свою сметанную тетку, а всякая изюмная попадья имеет свою гарусную коровницу, – у Трощинского этих сметанных теток и гарусных коровниц в Петербурге, наверное, еще два десятка, и доброго слова одной из них может оказаться достаточно, чтобы обеспечить молодому человеку первый шаг на гражданском поприще. А потому Никоша во всяком случае едет завтра в Ярески.
Сам Никоша, как будто речь шла не об нем, по-прежнему хоть бы пикнул. На другое же утро, когда дядя вошел опять к нему в комнату, он сделал вид, что его не заметил, и только когда Петр Петрович, точно между ними ничего не было, поздоровался с ним, он, не оборачиваясь, ответил сквозь зубы:
– Здравствуйте!
– Ну, полно, брат, не всякое лыко в строку, – сказал Косяровский и, наклонясь к племяннику, насильно обнял и поцеловал его. – Вот я привез тебе из Полтавы, да забыл отдать вчера, фунт леденцов. Других бонбошек, прости, не нашел.