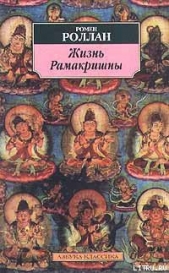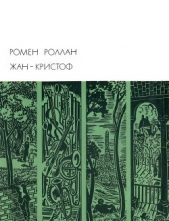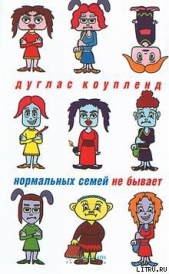Жан-Кристоф. Книги 6-10

Жан-Кристоф. Книги 6-10 читать книгу онлайн
Роман Ромена Роллана "Жaн-Кристоф" вобрал в себя политическую и общественную жизнь, развитие культуры, искусства Европы между франко-прусской войной 1870 года и началом первой мировой войны 1914 года.
Все десять книг романа объединены образом Жан-Кристофа, героя "c чистыми глазами и сердцем". Жан-Кристоф — герой бетховенского плана, то есть человек такого же духовного героизма, бунтарского духа, врожденного демократизма, что и гениальный немецкий композитор.
Во второй том вошли книги шестая — десятая.
Перевод с французского Н. Касаткиной, В. Станевич, С. Парнок, М. Рожицыной.
Вступительная статья и примечания И. Лилеевой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Что же? Драться с ними? Нет, это не наша роль, у нас есть дела поважнее. Мне лично насилие претит. Я слишком хорошо знаю, к чему оно приводит. Озлобленные старики неудачники, молодые щелкоперы-роялисты, гнусные апостолы всякого зверства и ненависти примазались бы к моему делу и обесчестили бы его. Ты что же, хочешь, чтобы я вернулся к древнему девизу ненависти: «Fuori Barbari!» [16]— или: «Франция для французов»?
— А почему бы и нет? — спросил Кристоф.
— Это, друг мой, недостойно француза! И напрасно у нас пропагандируют такие идеи под видом патриотизма. Подобный лозунг годится только для варваров. Наша страна не создана для ненависти. Гений нашего народа утверждает себя, не разрушая других, а поглощая их. Пусть к нам приходит и глубокомысленный Север, и болтливый Юг.
— И ядовитый Восток?
— И ядовитый Восток; мы растворим его в себе, как и остальных! Не он первый, не он последний. Мне просто смешон его победоносный вид, а также малодушие некоторых моих соотечественников. Пусть воображает, что завоевал нас; пусть распускает веером хвост на наших бульварах, в наших газетах и журналах, на наших подмостках — и театральных и политических. Глупец! Он же побежден! Напитав нас собой, он сам себя уничтожит. У Галлии хороший желудок: за двадцать веков она переварила не одну цивилизацию. Нам яды уже не опасны… А вы, немцы, трепещите, — ваше дело! Вы либо сохраните свою чистоту, либо исчезнете. Для нас же дело вовсе не в чистоте, а в универсальности. У вас есть император, Великобритания называет себя империей, но на самом деле надо всем этим царит наш латинский гений. Мы — граждане вселенского города. Urbis. Orbis {28}.
— Все это так, — ответил Кристоф, — пока нация здорова и в расцвете сил. Но в один прекрасный день ее энергия иссякает; и тогда она рискует быть затопленной чужеземцами. Между нами: тебе не кажется, что этот день наступил?
— Сколько раз уже это говорилось на протяжении веков! И всегда наша история опровергала все страхи! Мы выдерживали испытания и посерьезнее, начиная с времен Орлеанской девственницы, когда по опустевшему Парижу рыскали стаи голодных волков. Безудержный разврат, погоня за наслаждениями, бесхарактерность и равнодушие, современная анархия — все это меня не трогает. Терпение! Кто хочет выжить, тот должен выдержать. Я отлично знаю, что последует моральная реакция, — она, впрочем, ничем не будет лучше и, вероятно, приведет также к ряду глупостей; и ее самыми усердными служителями как раз и окажутся те, кто сейчас живет за счет коррупции общества. Но что нам до того! Все эти волнения никак не затрагивают подлинного народа Франции. Гнилое яблоко не портит яблони. Оно просто падает. Эти люди вне нации. И какое нам дело, будут ли они жить или умрут? Неужели же мне из-за них тревожиться и устраивать какие-то общества и революции? Нынешнее зло — не результат того или иного режима. Бацилла этой проказы — роскошь; эти люди паразитируют на нашем материальном и интеллектуальном богатстве, но от них и следа не останется.
— После того, как они высосут из вас все.
— Когда речь идет о народе, подобном нашему, не имеешь права отчаиваться. В нем столько скрытых достоинств, такая сила света и действенного идеализма, что эти качества сообщаются даже тем, кто этот народ эксплуатирует и разоряет. Даже своекорыстные политиканы испытывают на себе его влияние. Самые ничтожные, придя к власти, бывают потрясены величием его судеб; народ как бы заставляет их подняться над их ничтожеством; он передает им из рук в руки свой факел; и, один за другим, они возобновляют извечную борьбу против тьмы. Гений их народа увлекает их за собой; и волей-неволей они выполняют законы того бога, которого отрицают: Gesta Dei per Francos [17]. Родина, дорогая родина, никогда я не усомнюсь в тебе! И если даже на твою долю выпадут самые грозные испытания, они только усилят чувство гордости, которое вызывает во мне наша миссия на земле. Я вовсе не хочу, чтобы моя Франция трусливо сидела взаперти, как больной, боящийся свежего воздуха. Я не хочу прозябать. Когда народ достиг такого величия, какого достигли мы, лучше умереть, чем утратить его. Так пусть же весь мир обрушит на нас поток своей мысли! Я не боюсь его. Воды схлынут, напитав и удобрив своим илом мою землю.
— Бедненький мой, — сказал Кристоф, — но ведь пока-то уж очень невесело! И где ты будешь, когда твоя Франция вынырнет из этого Нила? Разве не лучше бороться? В борьбе ты рисковал бы только поражением, на которое ты сознательно обрекаешь себя до скончания своих дней.
— Я рисковал бы гораздо большим, чем поражение, — сказал Оливье. — Я рисковал бы потерять спокойствие духа, а оно мне дороже, чем победа. Я не хочу ненавидеть. Я хочу воздавать должное даже врагам. Я хочу сохранить в пылу страстей ясность взгляда, все понимать и все любить.
Но Кристоф, для которого эта любовь к жизни вдали от жизни скорее походила на покорное приятие смерти, чувствовал, подобно старику Эмпедоклу {29}, как в нем начинает греметь гимн к ненависти и к любви — сестре ненависти, к любви плодоносной, которая вспахивает и обсеменяет землю. Он не разделял спокойного фатализма Оливье; и так как, в отличие от своего друга, плохо верил в живучесть нации, которая не защищает себя, видел выход только в том, чтобы призвать к действию ее здоровые силы, поднять на бой всех честных людей Франции.
Подобно тому как за одну минуту любви больше узнаешь о человеке, чем за месяцы наблюдений, так же и Кристоф больше узнал о Франции после недели, проведенной дома, с Оливье, чем за год постоянных странствий по улицам Парижа с заходом в политические и литературные салоны. Посреди этой всеобщей анархии, в которой он терял почву под ногами, душа друга показалась ему каким-то Иль-де-Франсом — островом разума и тишины среди бурного моря. И внутренний покой, который Кристоф почувствовал в сердце нового друга, был тем поразительнее, что основой ему служили не доводы разума, не то, что он не знал спокойной и благополучной жизни (Оливье был беден, одинок, и его страна, казалось, клонилась к закату), а был подвержен болезням и обладал не слишком крепкими нервами; не казалось это спокойствие и плодом каких-либо волевых усилий (воля у него была слабая), — нет, оно рождалось из недр его существа и его народа. Кристоф замечал далекий отблеск того же ευφροσυνη — «безмолвного покоя неподвижного моря» — у многих из окружавших Оливье; и музыкант, слишком хорошо знавший, какое смятенье и какие бури таятся в глубинах его собственной души, — порой всей воли его едва хватало на то, чтобы укрощать и удерживать в равновесии буйные силы своей натуры, — музыкант восхищался этой скрытой от мира гармонией.
Открывшаяся перед ним картина внутренней жизни Франции скоро окончательно опрокинула все прежние представления о французском характере. Вместо веселого и общительного народа, блестящего и беззаботного, он видел людей, сосредоточенных в себе, одиноких, таящих под лучезарной дымкой оптимизма глубокий и спокойный пессимизм людей, одержимых навязчивыми идеями, страстями интеллекта и наделенных такой душевной стойкостью, что их легче было бы уничтожить, чем сбить с пути. Это были, конечно, только избранники, только лучшие представители французской нации. Кристоф, недоумевая, как-то спросил, что служит источником такого стоицизма и такой веры. Оливье ответил:
— Поражение. Это вы, мой добрый Кристоф, перековали нас. Увы, операция была мучительная. Вы даже не подозреваете, как мрачна была та атмосфера, в которой мы выросли — дети униженной и израненной Франции, заглянувшей в глаза смерти и всегда ощущавшей смертельную угрозу насилия. Наша жизнь, наш гений, наша французская цивилизация, величие десяти веков — мы знали, что все это попало в руки грубого завоевателя, который не понимает ее, втайне ненавидит и готов в любую минуту окончательно ее раздавить. И нам приходилось жить с сознанием этого. Вспомни о маленьких людях, о простодушных французах, о тех, кто родился в домах, отмеченных печатью траура и поражения, кто вскормлен унылыми рассуждениями, воспитан для кровавого реванша, рокового и, быть может, бесцельного; ибо они с раннего детства прежде всего усвоили ту мысль, что справедливости нет, ее не существует на земле: сила попирает право! Подобные открытия способны сломить юное поколение или закалить его душу навсегда; у многих опустились руки; они думали: раз так — зачем бороться? Зачем действовать? Ничто и есть ничто. Перестанем думать об этом. Будем наслаждаться жизнью. Но те, кто выдержал, прошли как бы испытание огнем. Их веру уже не поколеблют никакие разочарования, ибо с первого же дня они поняли, что их путь не имеет ничего общего с дорогой к счастью и что все же — поскольку иного выбора нет — нужно идти, иначе задохнешься. Эта уверенность приходит не сразу. И нельзя требовать ее от пятнадцатилетних мальчиков. Им предстоит пережить немало тяжелого и пролить немало слез. Но так нужно. Так должно быть.