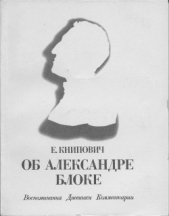Живые лица

Живые лица читать книгу онлайн
Богема называла ее «декадентской Мадонной», а большевик Троцкий — ведьмой.
Ее влияние на формирование «лица» русской литературы 10–20-х годов очевидно, а литературную жизнь русского зарубежья невозможно представить без участия в ней 3. Гиппиус.
«Живые лица» — серия созданных Гиппиус портретов своих современников: А. Блока, В. Брюсова, В. Розанова, А. Вырубовой…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мы узнали все это (Горький, конечно, мне не ответил) от друга и поклонника Розанова, молодого писателя X[овина], [226] к нам пришедшего. Этот Х[овин] умудрялся в то время держать еще фуксом книжную лавочку, продавал старые брошюрки, даже новенькие безобидные выпускал, вроде сборников, где печатал и последний Розановский «Апокалипсис».
Х[овин], оказывается, давно уже пытался сделать что-нибудь для Розанова и был в сношениях с Лаврой. Имел известия, что деньги от Горького действительно посланы; надеялся добыть еще и свезти их Розанову сам: ему написали, что Розанов уже не «истощен» и «нездоров», но отчаянно, по-видимому смертельно, болен.
— Было кровоизлияние; немного оправился — второе. Лежит недвижимо, но в полном сознании. Питать его нечем, лекарств никаких.
Х[овин] принес нам и последние страницы «Апокалипсиса».
Опять весь Розанов в них, весь целиком: его голос, его говор, и наше время страшное, о котором у нас слов не было, — у него были. Тьма, голод и холод — смерть.
«Это ужасное замерзание ночью. Страшные мысли приходят. Есть что-то враждебное в стихии «холода» — организму человеческому как организму «теплокровному». Он боится холода и как-то душевно боится, а не кожно, не мускульно. Душа его становится грубою, жесткою, как «гусиная кожа на холоду…».
Вот он снова его страх перед холодом. И как страшно холод настигал его. Настиг, внешний, как всех нас тогда, еще перед болезнью; схватил, внутренний, в болезни; и уже не выпустил из челюстей, пока не сожрал — в смерти.
А защищаться было нечем. «Топлива для организма», еды, — не было.
«Впечатления еды теперь главные. И я заметил, что, к позору, все это равно замечают. И уже не стыдится бедный человек, и уже не стыдится горький человек…»
Он писал это еще до болезни, еще на ногах (когда, вероятно, окурки на вокзале Ярославском собирал). Один из выпусков «Апокалипсиса», после блестящих и глубоких страниц, кончается:
«Устал. Не могу. 2–3 горсти муки, 2–3 горсти крупы, пять круто испеченных яиц — может часто спасти день мой…»
Но день его не был спасен. Случайная подачка «собрата» Горького опоздала.
Скоро, через X[овина] (а может быть, и нет), пришло к нам первое письмо Розанова, [227] уже больного, — написанное рукой дочери, действительно «выговоренное» (его рука была недвижна).
Первое, потом второе, потом третье… Как я больно жалею, что их нет у меня. Они, конечно, не исчезли совсем, навсегда. Любящая дочь, верно, сохранила копии. Кое-что из них посылалось и другим, я думаю, — вот о «холоде» его предсмертном [228] потрясающие слова: они были даже не так давно напечатаны в какой-то заграничной газете. Наверно, писал он Горькому [229] (и наверно, Горький письма сохранил, ведь его собственность всегда была неприкосновенна). «Спасибо Максимушке», — ласково и радостно писал и нам Розанов, этот «бедный человек, горький человек». Все благодарил его за подачку: на картошку какую-то хватило.
Сознавал ли, что умирает? «Очень мне плохо: склероз в сильнейшей степени…» Потом вдруг шутил; и говорил, что долго еще нужно лежать, шесть месяцев, что поправление идет медленно. И тут же об этом страшном «ледяном озере», куда он постепенно опускается, так, что ноги — уже там и уже как бы не его, и с ног холодная, ледяная вода все подымается выше… Но — как передать? — ни в одной, самой страшной строке — не было «нытья», и даже почти жалобы не было, а детская разве жалостность.
«Никогда мы так вкусно не ели: картошка жареная, хлебца кусочек, и так хорошо».
Но потом вдруг:
«Пирожка бы… Творожка бы…»
О дочерях писал; какие они, как за ним ухаживают: «На руки меня берет с постели, как ребенка, и на другую кровать, рядом, перекладывает, пока ту поправляют. Говорит, что я легкий стал, одни кости. Да ведь и кости весят что-нибудь…»
О жене — кажется, ни разу, ни слова. Он и раньше о ней не говорил в письмах. Мы, впрочем, знали, что она всегда при нем, тоже полунедвижимая, и что он вечно думает о куске — для нее.
Эти письма, писанные дочерью, до такой степени сам Розанов, что странно было видеть чужой почерк. Розанов в расцвете своих душевных сил? Нет, просто он, в том самом расцвете, в каком был всегда, единственный, неоценимый, неизменяемый. Одно разве: в предпоследние годы его бесчисленные мыслеощущения, его «да — нет», с главным, поверх выплывшим ощущением «холода — смерти» — были уже так заострены, что куда же дальше? И однако они еще обострились, отточились; дошли до колющей тонкости, силы и яркости.
Ледяные воды поднимались к сердцу.
— Розанов нашел приют в Троице-Сергиевской Лавре в тяжелую минуту. Очень хорош с Ф[лоренским], который его не покидает. Семья такая православная. Да, вот он и пришел к христианству.
Так стали говорить о нем. И рассуждали, и доказывали.
— Ведь это еще с тех пор началось, его коренная перемена, со статей против евреев. Какой был юдофил. А вот — дружба с Ф[лоренским] и, параллельно, отход от евреев; обращение к христианству, к православию, переезд в Лавру…
Это говорили люди, судя Розанова по-своему, — во времени. И было, с их точки зрения, правильно, и было похоже на правду.
А что — на самом деле? Посмотрим.
«Услуги еврейские, как гвозди в руки мои, ласковость еврейская, как пламя, обжигает меня.
Ибо, пользуясь этими услугами, погибнет народ мой, ибо обвеянный этой ласковостью задохнется и сгниет мой народ».
Не написано ли это уже во время «поворота», уже под влиянием Ф[лоренского], не в Лавре ли? О нет! до войны, до Ф[лоренского]; в самый разгар того, что звали розановским безмерным «юдофильством». В «Лавре» же, в последние месяцы, вот что писалось — выговаривалось:
«Евреи — самый утонченный народ в Европе…» «Все европейское как-то необыкновенно грубо, жестко сравнительно с еврейским…» «И везде они несут благородную и святую идею «греха» (я плачу), без которой нет религии… Они. Они. Они. Они утерли сопли пресловутому человечеству и всунули ему в руки молитвенник: на, болван, помолись. Дали псалмы. И чудная Дева — из евреек. Что бы мы были, какая дичь в Европе, если бы не евреи». Социализм? но «ведь социализм выражает мысль о «братстве народов» и «братстве людей», и они в него уперлись…».
Переменился Розанов? Забыл свое влюбленное притягивание к евреям под «влиянием» Ф[лоренского]? Это — о евреях. Ну, а христианство? Православие? Кто Розанов теперь? Что он пишет теперь, в Лавре?
«Ужас, о котором они не догадываются, больше, чем он есть: что не грудь человеческая сгноила христианство, а что христианство сгноило грудь человеческую». «Попробуйте распять Солнце, и вы увидите, который Бог». «Солнце больше может, чем Христос, и больше Христа желает счастья человечеству…»
Что же это такое? Что скажем? Ничего. Розанов верен себе до конца. Он верен и любви своей ко Христу. Тайной, но чем глубже «долина смертной тени», тем чаще молнии прорывов любви. Вот один из этих прорывов, за 6 лет до смерти:
«…все ветхозаветное прошло, и настал Новый Завет». «Впервые забрезжило в уме. Если Он — Утешитель: то как хочу я утешения; и тогда Он — Бог мой. Неужели?
Какая-то радость. Но еще не смею. Неужели мне не бояться того, чего я с таким смертельным ужасом боюсь; неужели думать: встретимся! Воскреснем! И вот Он — Бог наш! И все — объяснится.
Угрюмая душа моя впервые становится на эту точку зрения. О, как она угрюма была, моя душа…
Ужасно странно.
Т. е. ужасное было, а странное наступает.
Господи: неужели это Ты. Приходишь в ночи, когда душа так скорбела…»
И ничего, совсем ничего, что потом, из монастыря, почти на одре смерти, пишет: «Христианство сгноило грудь человеческую». Он тут же возвращается: