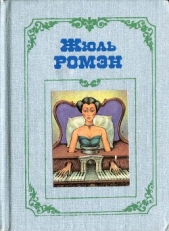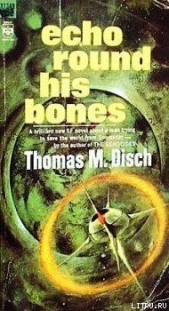Путём всея плоти
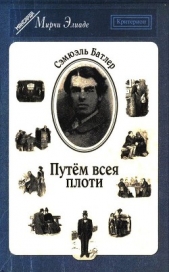
Путём всея плоти читать книгу онлайн
В серию «Мансарда» войдут книги, на которых рос великий ученый и писатель Мирча Элиаде (1907–1986), авторы, бывшие его открытиями, — его невольные учителя, о каждом из которых он оставил письменные свидетельства.
Сэмюэль Батлер (1835–1902) известен в России исключительно как сочинитель эпатажных афоризмов. Между тем сегодня в списке 20 лучших романов XX века его роман «Путём всея плоти» стоит на восьмом месте. Этот литературный памятник — биография автора, который волновал и волнует умы всех, кто живет интеллектуальными страстями. «Модернист викторианской эпохи», Батлер живописует нам свою судьбу иконоборца, чудака и затворника, позволяющего себе попирать любые авторитеты и выступать с самыми дерзкими гипотезами.
В книгу включены два очерка — два взаимодополняющих мнения о Батлере — Мирчи Элиаде и Бернарда Шоу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Так и блуждали его мыслишки, пока он не устал следить за ними и снова не впал в дрёму.
Глава XXX
Наутро Теобальд и Кристина проснулись с некоторым чувством усталости от дороги, но и с ощущением счастья — самого сильного из доступных нам — счастья чистой совести. Отныне, если их сын не станет хорошим человеком и не достигнет должного благосостояния, это будет целиком на его совести. Могут ли родители сделать больше, чем сделали они? «Нет» возникнет на устах читателя так же мгновенно, как и у самих Теобальда с Кристиной.
Несколько дней спустя сын порадовал их следующим письмом:
у меня всё хорошо. Доктор Скиннер как следует погонял меня вдоль и поперек по латинской поэзии, и поскольку я всё это прошёл с папой, то я всё знал, и всё получилось почти хорошо, и он определил меня в четвёртый класс к мистеру Темплеру, и я теперь начинаю изучать новую латинскую грамматику, не такую, как старая, а гораздо труднее. Я понимаю, что вы желаете, чтобы я трудился, и я буду стараться изо всех сил. С крепкой любовью к Джои и Шарлотте, и тоже к папе, остаюсь вашим любящим сыном
Что может быть лучше и пристойнее! Похоже, он воистину переворачивал новую страницу своей жизни. Мальчики все вернулись с каникул, экзамены были позади, жизнь второго полугодия пошла по заведённому порядку. Страхи Эрнеста, что его будут пинать и изводить, оказались преувеличенными. Ничего особенно ужасного никто ему не делал. На переменах старшие мальчики посылали его по разным мелким поручениям, ему чаще других приходилось бегать за футбольным мячом и тому подобное, но по части издевательств — нет, в этом смысле атмосфера в школе была прекрасная.
И всё же хорошо ему не было. Доктор Скиннер слишком сильно напоминал ему отца. Правда, до настоящих столкновений пока ещё не дошло, но он был вездесущ; невозможно было предугадать, в какой момент он возникнет перед тобой, и всякий раз его появление сопровождалось какой-нибудь грозой. Он был, как лев из воскресной беседы епископа Оксфордского — того и гляди выскочит из-за куста и сожрёт ни о чём не подозревающего тебя. Он назвал Эрнеста «дерзкой мошкой» и сказал, что поражается, как это земля не разверзнется и не поглотит его за то, что он произносит «и» в слове «Талия» кратко. «И это в моём присутствии, — громыхал он, — в присутствии того, кто в жизни не нарушил правил долготы звука!» Право, он был бы гораздо более приятным человеком, если бы, как и все люди, в юности своей нарушал правила, хотя бы долготы звука. Эрнест не мог себе представить, как вообще выживали мальчики в классе доктора Скиннера; а ведь они выживали, и даже преуспевали, и даже, трудно поверить, боготворили его, ну, или в последующей жизни рассказывали, что боготворят. Для Эрнеста это было, как жить на кратере Везувия.
Сам он, как уже говорилось, учился в классе мистера Темплера, который был брюзга, но не злюка, и на его уроках можно было легко списывать. Эрнест поражался, как можно быть таким слепым, ведь наверняка мистер Темплер и сам списывал в детстве; как можно, думал он, настолько забыть, состарившись, свои молодые годы? Он сам, думалось ему, никогда не сможет забыть ни малой толики.
Немало тревожила его порой и миссис Джей. Через несколько дней после начала второго полугодия в холле произошёл какой-то необычный шум, и она ворвалась туда в шляпе с развевающимися ленточками и в откинутых на лоб очках и назвала мальчика, которого Эрнест избрал себе в герои, «самым худшим во всей школе букой-злюкой-тарахтелкой-ничего-не-делкой-нарушалкой-грохоталкой». Но иногда она говорила и приятные для Эрнеста вещи. Если доктор отправлялся куда-нибудь на ужин, и в этот вечер не было молитвы, она, бывало, войдёт и скажет: «Юные джентльмены, молитвы на сегодня — свободны». В общем и целом это была достаточно добрая душа.
Большинство мальчиков скоро научаются отличать пустые угрозы от настоящей опасности; но есть и такие, для которых сама идея кому бы то ни было угрожать (разве в шутку) настолько неестественна, что они долго не могут отучиться воспринимать индюков и гусаков аи serieux. Эрнест был из их числа; климат Рафборо был для него слишком неспокойным, и он предпочитал удаляться с глаз долой и из сердца вон при первой возможности. Игры он не любил ещё, пожалуй, сильнее, чем шумные потасовки в классе и на перемене, ибо был хил и долго ещё не вписывался в ряды своих сверстников; в физическом развитии он отставал от большинства мальчиков его возраста. Дело, может быть, в том, что отец слишком много заставлял его сидеть над книгами, а также, мне кажется, частично и в наследственной у всех Понтификов тенденции к запоздалому развитию, сказывавшейся, кроме всего прочего, в необычном долголетии.
В тринадцать-четырнадцать лет он был кожа да кости, предплечья не толще, чем у сверстников запястья, куриная грудь, ни силы, ни выносливости; из-за привычки вечно вжиматься в стену при любой схватке, затеянной в шутку или всерьёз, даже с мальчиками меньше его ростом, естественная для детства робость развилась в нём, боюсь, до уровня трусости. От этого его беспомощность усугублялась, ибо как уверенность в себе придаёт силы, так её отсутствие порождает бессилие. После того, как из него с десяток раз вышибли дух и «подковали» в футбольных потасовках — в каковые потасовки его вовлекали исключительно против его воли, — он утратил всяческий интерес к футболу и стал увиливать от этой благородной игры, что настроило против него старших мальчиков, которые не терпят, когда младшие увиливают.
В крикете он был столь же беспомощен и неловок, как и в футболе, и сколько ни старался, не мог забить мяч в ворота. Итак, скоро всем стало ясно, что Понтифик — мазила и рохля, травить которого не стоит, но и в первачи записывать тоже незачем. Впрочем, активной нелюбви к себе он не испытывал, ибо все увидели, что он совершенно честен inter pares [131], абсолютно незлопамятен, покладист, легко расстаётся с имеющимися у него небольшими суммами, любит учёбу не больше игр и, в целом, легче склоняется к умеренному пороку, чем к неумеренной добродетели.
Такие качества всегда удержат мальчика от того, чтобы совсем уже низко пасть в глазах своих однокашников, но Эрнест считал, что пал совсем низко, ниже, чем это было на самом деле, и ненавидел и презирал себя за то, что и он сам, и все остальные полагали трусостью. Мальчики, которых он считал похожими на себя, ему не нравились. Его герои были сильные и энергичные, и чем меньше внимания они на него обращали, тем больше он перед ними преклонялся. От всего этого он ужасно страдал, и ему ни разу не пришло в голову, что инстинкт, отвращавший его от игр, был здоровее любых резонов, заставлявших его в них участвовать. И всё же он по большей части следовал этому инстинкту, а не тем резонам. Sapiens suam si sapientiam norit [132].
Глава XXXI
Что касается учителей, то в недолгом времени Эрнест впал к ним в совершеннейшую немилость. Он позволял себе вольности, дотоле для него неслыханные. Тяжкая десница и всевидящее око Теобальда более не стерегли его, не сторожили его сон, не выслеживали всякое его движение, а наказание в виде переписывания стихов из Виргилия не шло ни в какое сравнение с варварскими порками Теобальда. Собственно говоря, переписывание часто было не столько неприятностью, сколько уроком. Правда, натуральный инстинкт Эрнеста не усматривал в латыни и греческом ничего такого, что обещало бы ему покой даже и на смертном одре, не говоря уже о надежде приобрести его в не столь отдалённом будущем. Безжизненность, присущую этим мёртвым языкам, никто не пытался искусственно скомпенсировать какой-нибудь системой вознаграждений за их использование. Наказаний за неиспользование было сколько угодно, но никто не придумал какой-нибудь привлекательной взятки, эдакой наживки, которая подманила бы ученика на крючок его собственной пользы.