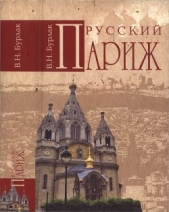Русский в Париже 1814 года

Русский в Париже 1814 года читать книгу онлайн
«Громадный Париж со своими предместьями уже был охвачен союзными войсками от впадения Марны в Сену и опять до Сены при Пасси. Перемирие было заключено; громы сражения умолкли на левом фланге: высоты Бельвиля, Менильмонтана и Монлуи, занятые союзниками и уставленные пушками, грозили разрушением столице Франции; войска, их защищавшие, начали уже отступление, – но еще битва кипела по другую сторону канала д'Урк и на Монмартре, куда не достигло еще известие о перемирии…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– A propos, ma tante! [104] эта проклятая история бала на том не кончилась, что вы рассказали, – с этими словами он взглянул на Эмилию, которая, думая, что он хочет рассказать ее сцену с Глинским, не знала, что с нею делается в эту минуту.
– Что ж еще случилось?
– Безделица, ma tante! я сегодня поутру встретил на улице Глинского после того, как вы его видели; он был чрезвычайно мрачен и так расстроен, что почти не узнал меня и, хотя он сказал мне, что сожаление в причиненном вам беспокойстве и насмешки целого дома не позволяют ему более у вас оставаться, но это было не все, что скрывалось у него на душе; он был как сумасшедший. Это рассказал он, пока я завтракал aux mille colonnes, куда я завел его, чтоб расспросить – и, только что я отвернулся расплатиться, у Глинского была уже готовая дуэль.
– Дуэль? – вскрикнула маркиза. Эмилия подняла трепещущие ресницы.
– Да, ma tante, и именно с этим усатым человеком, которого видел Глинский у мадам Гогормо. Вероятно, их дела были заодно. Вчера он показывал Глинскому, что сердится за предпочтение, а сегодня за его отказ этой графине. Вот мы и поехали.
– И ты допустил Глинского?..
– Я бы охотно отвратил этот случай, но первое – что Глинский знаком с порохом более моего; второе, что дело шло об обиде русских, а в-третьих, он был в таком расположении, что охотно желал быть убитым – я это по всему мог видеть. К тому же я так рад был, что могу ему услужить и быть у него секундантом.
– Боже мой, Шабань! по твоим словам можно подумать, что ты бы рад был его смерти! – что же далее?..
– Ах! ma tante! Если когда-нибудь мне даст бог дуэль, и я буду драться так же, как Глинский, – об этом будут говорить целый месяц в Париже.
Едва Шабань начал рассказывать, вошел в комнату Дюбуа, который, получив записку графини и узнав, что она в общих комнатах, счел за лучшее отвечать лично. Он ждал повторения вопроса графини, но как в сию минуту внимание ее было устремлено на происшествие важнейшее, то он, не прерывая рассказа Шабаня, сел и выслушал всю историю поединка. Маркиза восклицала; Эмилия едва воздерживалась, и когда Шабань кончил, когда Дюбуа расспросил все подробности этой повести, она обратила свои глаза на него, как бы ожидая ответа; он подошел к ней и, не полагая вопроса ее в ином смысле, как ему самому казалось, сказал вполголоса:
– Это очень порядочная женщина, вы можете быть уверены в ее усердии, потому что ее стараниями нашему раненому уже гораздо легче. Сестра не может лучше ходить за своим братом. Нет ли у вас каких-нибудь видов на нее и Гравелля? – прибавил он, улыбаясь.
В один миг вся кровь, собравшаяся к сердцу графини от ожидания, бросилась ей в лицо: эти слова Дюбуа вдруг привели ей на память все, что говорил Глинский, и все, что она сделала ему от своей забывчивости. Никто, кроме добродетельного человека, не в состоянии так сильно испытывать чувство, которое рождается в его сердце после того, как он обидел напрасно невинного человека. Эмилия быстро встала, но едва имела сил держаться, так что внимательный Дюбуа должен был подать ей руку, чтобы проводить из комнаты. Верный и проницательный глаз его отгадал, что происходило в этом сердце. Вчерашняя холодность Эмилии, сегодняшнее расстройство, печальный Глинский, дуэль, вопрос о вдове Казаль и ответ, которого, как видел Дюбуа, графиня не ожидала, притом же мгновенная мысль о Урсуле и Мишо – все сцепление идей одна за другою развило ему ясно то, чего графиня не хотела, но желала бы прочесть в собственном сердце.
Графиня все еще молчала: на губах Дюбуа была горькая усмешка, которая показывала удовольствие, что он убедился в справедливости своей мысли и, вместе с тем, что убеждение в ней было неприятно.
– Итак, графиня, – начал он, проводив до ее комнат и откланиваясь, – итак, я вижу, что вы не забыли обещания мне первому сказать, если русский заставит вас поколебаться; вижу, что виноват сам, прервав неуместным ответом начало нашей откровенности.
В этих словах заключалось много горького, но они сказаны были с таким прискорбием, что графиня, чувствуя всю их справедливость, не заметила едкости упрека; этого, однако же, довольно было, чтоб испугать бедную Эмилию.
– Нет, Дюбуа, нет, этому быть невозможно. Вы видите то, чего я не хочу, не могу, чего даже я подозревать в себе не в состоянии.
Дюбуа молча поклонился и исчез.
Между тем Шабань торжествовал. Маркиза нетерпеливо хотела видеть Глинского, хотела обнять, бранить, хвалить его. Ее чувствования смешивались: заботливость и энтузиазм, сродный француженкам, страх и удовольствие попеременно занимали ее мысли. Женщины боятся сражений и поединков, но любят отважных людей – одна из странных противоположностей женского характера! Как будто можно быть храбрым, не дравшись!
Слезы графини теперь смешивались с приятным ощущением, которое наполняло ее сердце оттого, что она могла оправдывать Глинского. Человек, которого мы обвиняли и который выходит чист из подозрения, является глазам нашим в большем блеске, нежели прежде, и даже – в собственном мнении стоит выше нас, пока совесть наша не успокоится; притом же графиня понимала жестокость своего упрека, видела, до чего Глинский доведен был им, и живо чувствовала, чему подвергался. Сердце человеческое слабо: но чем выше его чувствования, тем более видит он свои слабости, тем охотнее признается в них и тем скорее желает их исправить… Эмилия готова была принести в жертву свое самолюбие, лишь бы примириться с Глинским, с самой собою, но не знала, что делать, с чего ей начать.
В этой нерешимости она подошла к окну и смотрела сквозь занавесь на открытые окошки Глинского. Он уже был дома и ходил в большом волнении по комнате. Эмилия видела, как образ его мелькал мимо того и другого окошка, видела также, что слуга суетился, сбирал и укладывал разные вещи. Сердце Эмилии затрепетало; она поняла, что это значит. В эту минуту все соображения, все препятствия, все выговоры Дюбуа были забыты – она бросилась к письменному столу и написала:
«Я виновата, Глинский, очень виновата! но не будьте строги к чувствованиям женщины, которая думала, что потеряла друга и что вы были причиною этой потери. Придете ли вы в сад сказать, что прощаете меня?..»
Няньке, с Габриелью шедшей в сад, велено было отдать записку.
– Дай Габриели, маменька, – кричала малютка, вырывая записку, – Габриель сама отдаст ему – и записка была отдана ей.
Глинский никак не воображал, что такое подала ему Габриель и, когда нянька сказала, что это от графини, когда он увидел содержание милых строк, он не верил слуху, не верил глазам, допрашивал няньку, целовал Габриель и отправил их в сад, сказав, что идет за ними. Первое движение точно было броситься туда, но мысли были в таком беспорядке, сердце его так билось, колени дрожали, что он принужден был остановиться у дверей и дать хоть немного успокоиться чувствам. Он видел, как графиня показалась на аллее, как дочь ее подбежала, как Эмилия обнимала ее и отирала свои слезы. Маленькая Габриель скрылась; Эмилия пошла к мраморной скамейке; Глинский, не помня себя, побежал с крыльца и очутился перед нею.
– Глинский! – сказала в замешательстве графиня, протягивая к нему руку, и не могла более произнести ни слова; милое лицо ее покрыто было румянцем, на глазах плавали слезы. Глинский с жаром целовал поданную руку. – Сядьте, Глинский, сядьте, Вадим, я вам скажу… я расскажу вам… – говорила графиня и села на скамью; он сделал то же, но рука ее осталась в его руках; они говорили оба, говорили вдруг; слова графини прерывались слезами, Глинский переставал говорить для того только, чтоб целовать руку Эмилии, и он был так счастлив! – Наконец графиня заметила, что Глинский овладел ее рукою – тихонько отняла ее, но это было не надолго, потому что в пылу разговора, где он оправдывался с силою истины и невинности, другая потупляла глаза, признаваясь в несправедливости обвинения, рука Эмилии опять являлась в руках Глинского залогом примирения и новые пламенные поцелуи румянили нежные пальчики графини.