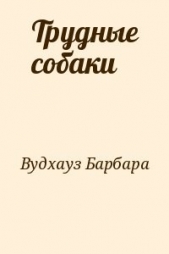Золотая змея. Голодные собаки

Золотая змея. Голодные собаки читать книгу онлайн
Романы Сиро Алегрии приобрели популярность не только в силу их значительных литературных достоинств. В «Золотой змее» и особенно в «Голодных собаках» предельно четкое выражение получили тенденции индихенизма, идейного течения, зародившегося в Латинской Америке в конце XIX века. Слово «инди?хена» (буквально: туземец) носило уничижительный оттенок, хотя почти во всех странах Латинской Америки эти «туземцы» составляли значительную, а порой и подавляющую часть населения. Писатели, которые отстаивали права коренных обитателей Нового Света на земли их предков и боролись за возрождение самобытных и древних культур Южной Америки, именно поэтому окрестили себя индихенистами.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вон там, наверное, слышно было, как она пела…
— Мать еще кое-что собрала постирать…
— Там она, там…
— А вы что тут делаете? — В маленьких глазках старика вспыхивают подозрительные огоньки.
— Я тростник рублю, хочу дудки сделать… В Бамбамарке на них всегда спрос…
— Ну-ну, это дело хорошее…
Дон Панчо уходит, насвистывая, то и дело спотыкаясь о стерню…
С того дня меня будто подменили. В своей хижине я чувствую себя очень одиноким. Без конца жую коку, но она стала горькая, как полынь. Флоринда и вправду испугалась? Или бросилась к берегу просто от неожиданности? А может быть, рассердилась? Кока обычно успокаивает, но сейчас она совсем растравила мне душу. В меня вселился какой-то тоскливый страх. Донья Мариана говорит: «Не иначе как вас сглазили». Ни с Ромеро, ни с другими чоло я не могу разговаривать, как прежде. Кому я нужен теперь, кроме самого себя? Да и себе не нужен.
Ночью уханье филинов наводит на меня страх. Правду ли говорят, что они предвещают смерть? Конечно, умереть всем придется, но ведь не от того, что кричат эти птицы, иначе у нас в долине давно бы не осталось ни одной живой души. Но даже от таких рассуждений легче не становится. Когда среди ночного мрака раздается жуткий хохот филинов, просто невмоготу оставаться одному в доме. Тогда я вижу, как из чрева ночи наползают на меня зловещие тени, и слышу в криках филинов голос злого рока. Нет, не годится быть одному в такое время.
А кока горькая, горькая, как полынь. И сон никак не приходит.
Иногда у меня мелькает надежда, что солнечное утро и гомон счастливых птах вернут мне покой и, как прежде, радость побежит по моим жилам, радость жить, сеять, собирать урожай, снова и снова переправляться через реку, слышать шепот бескрайних лесов и шум вечных вод… Но кока горькая, а ведь она не обманывает. Что-то недоброе ждет меня.
А может, обойдется? Кока — вещунья, все знает! Не иначе как она учит меня: не упускай свое счастье, гляди в самую суть жизни, перед тобой новая дорога, иди же по ней! Кока все знает, и, я надеюсь, в один прекрасный день она принесет мне добрую весть, и прежний покой воцарится в моей душе.
Вот с какими думами я встречаю утренние и вечерние зори. Мысли мои все время обращаются к коке, у нее, у моей горькой коки, я прошу совета и все жду, когда же совершится чудо, когда наконец мой рот вновь ощутит ее сладость.
Как-то ночью я почувствовал, что не могу больше оставаться дома. Я должен был к кому-то пойти. Может быть, к Флоринде? Конечно, кока посылает меня именно к Флоринде. Много раз я следил за ней, но она никогда не отходила далеко от дома. А теперь у меня только одно желание: найти ее, унести куда-нибудь в поле, овладеть ею и умереть. Люди скажут, что Лукас Вилька сошел с ума, но мне все равно. Кока отравила меня своей горечью, и я решился. Кока, убей меня или дай мне ее! Куда мне идти, кока?
Я выхожу на улицу, оглядываюсь по сторонам, но не вижу ничего, кроме черной ночи. В далекой вышине мигает одинокая звездочка, и я иду, сам не зная куда. Флоринда! Кока отравила меня своей горечью. Ветки царапают лицо. Пусть кричит филин. Кричи, филин, кричи, теперь-то ты не зря стараешься. Вон там, где играет на свирели ветер — там тростники. А вот и река. Вот оно, то самое место. Здесь Флоринда торопливо прятала свое тело от моих жадных глаз. А вон там она стояла обнаженная, в этой самой воде, в которой теперь даже темные волны еле можно различить.
Что ж ты молчишь, кока?
Язык прижимает к небу влажный, горький комочек.
Не отнимай ее у меня, зелье отцов наших. Не будь такой горькой, кока. Напои меня сладостью меда и спелых плодов. Тайта рассказывал, что ему ты предсказала судьбу, почему же ты ничего не говоришь мне, ведь я спрашиваю тебя с утра до ночи и с ночи до утра и терпеливо жду. Или горечь твоя — это и есть твое предсказание, и я напрасно упорствую, не повинуясь твоему решению? Но я не выплевываю тебя, потому что ты этого не хочешь…
Я говорю с кокой, стоя над рекой, говорю долго-долго.
И вдруг на кончике языка я почувствовал сладость, и все тело рванулось навстречу доброй вести. Что это там, в воде? Чье-то неподвижное, как будто мертвое тело, но почему оно так сияет? Вот оно приподнимается, встает, вода едва прикрывает бедра… Это же Флоринда! Это ее упругие груди, ее сочные губы, ее огромные лучистые глаза. Я бегу к ней, — она играет водой, ничего не замечая, — и вдруг я падаю, острый холод охватывает меня и пронзает мой мозг, я встаю, а Флоринды уже нет. Она исчезла, ее отняла у меня коварная река. Флоринда! Флоринда! Но тоска ушла из моего сердца, я покидаю реку умиротворенный, волнение мое прошло, и кровь успокоилась.
Кока показала мне Флоринду, а река отняла. Но я знаю, кока мне ее подарила, и я могу быть спокоен. Кока подарила мне покой. А Флоринда придет сама, сама отдаст мне свое девичье тело, чистое, как невозделанное поле.
Я сижу у себя в хижине, жую коку, и крики сов кажутся мне песней дождя. Я перестаю жевать, неуловимая сладость проникает мне в мозг и сердце, в кровь и кости. Раз кока стала сладкой, значит, все будет хорошо. И я засыпаю…
Пронзительный крик кьен-кьена будит меня, когда весь мой маленький дворик уже залит ярким солнечным светом. Черно-желтая птичка забралась в хижину и прыгает по переметной суме, повешенной на стену.
— Кш, пошла отсюда!
Птичка пробирается сквозь просветы в плетеной стене и улетает. А я поднимаюсь и чувствую, что все стало на свое место. Это мой дом, а это моя делянка, это Калемар, а это — река, и все опять так, как было вчера, как было всегда и как всегда будет. Тоска моя прошла, будто ее никогда и не было. И на языке осталась нежная сладость, подаренная мне в ту ночь шариком коки, которой все известно, и хорошее и плохое.
Я выхожу во дворик, хочу осмотреть изгородь — давно пора этим заняться. Птицы весело щебечут. Ага, вот здесь надо подправить. А вечером, когда сядет солнце, возьмусь за коку. Листья сильно выросли, густо облепили ветки, самое время для сбора, и урожай, видно, будет богатый. Батюшки, а бананы-то как вытянулись за эти дни!
Вдруг вижу, по тропинке, мимо кустов и высоких трав, почти закрывших мою изгородь, идет Флоринда, идет прямо к моей хижине. Я заторопился, тоже пошел к хижине, только с другой стороны, и мы подошли к дверям вместе. Она теребит пальцами блестящие косы, переброшенные через плечо на высокую грудь.
— Тайта прислал спросить, нет ли у вас перца…
— Есть, Флори, как не быть…
И пока я вытаскиваю из угла на середину комнаты мешок, она искоса поглядывает на меня. Она следит за каждым моим движением, а я развязываю мешок нарочно как можно медленней. «Не похоже, чтоб сердилась, думаю, да и кока со вчерашнего вечера сладкая». Кока подбадривает меня.
— Послушай, — говорю я, прижимая к небу шарик вещего зелья, — ты еще не забыла Рохе?
— Не забыла, да только ведь он умер…
Из раскрытого мешка на нас смотрит желтый перец.
— Иди бери, сколько тебе надо…
Она подбирает подол своей широкой ситцевой юбки, и я вижу гладкие икры ее ног.
— Знаешь, я ведь очень люблю тебя…
— Неправда это, дон Луша…
— Луша? Откуда ты взяла такое имя?
Ее улыбка и глаза говорят, что она уже моя.
Так красивее, чем просто Лукас…
— Называй как хочешь, только полюби меня…
Она опускает подол и вся дрожит. Я кладу руки ей на бедра и, тяжело дыша, с силой притягиваю ее к себе, так что даже косточки хрустнули. И нас поглотили дремучие дебри, дебри, где лианами переплетаются мускулы и нервы, сладость и боль, хрип и стон, где древние, как сам человек, корни уходят в пропитанные соками жизни недра…
Потом она мне рассказывала, — а я слушал и все думал о нашей благословенной коке, — что той ночью ей снилось, будто мы вместе ходили к реке.
Она взяла перец и ушла, а однажды вечером, переговорив с доном Панчо, я вернулся домой вместе с ней. Так Флоринда стала моей женой.