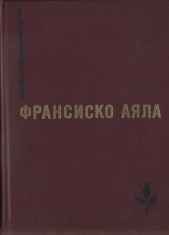Избранное

Избранное читать книгу онлайн
Настоящее издание дает представление о прозе крупнейшего венгерского писателя, чье творчество неоднократно отмечалось премией им. Кошута, Государственной и различными литературными премиями.
Книга «Люди пусты» (1934) рассказывает о жизни венгерского батрачества. Тематически с этим произведением связана повесть «Обед в замке» (1962). В романе-эссе «В ладье Харона» (1967) писатель размышляет о важнейших проблемах человеческого бытия, о смысле жизни, о торжестве человеческого разума, о радости свободного творческого труда.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— И вот под конец торжества заглядывает мне в глаза этакая славненькая молодка с ямочками на щеках и заявляет: «Вот если бы от такого мужчины, как дядюшка Шани, можно было ребеночка заполучить, я бы рожала хоть каждый год!» У меня уже готово было сорваться с языка, за чем, мол, тогда дело стало, но я вовремя удержался: кругом стоят учителя, рядом сын-директор, тут же невестка, ребятишки.
— Ну и?..
— Расчувствовались все до слез: они так поняли, будто лучшего комплимента и придумать было нельзя.
— Ха-ха-ха! В самую точку попал! Ха-ха-ха!
В Советском Союзе, по последней переписи населения, зарегистрировано 21 708 человек в возрасте старше ста лет. При последующей переписи число долгожителей поднимется как минимум до двадцати пяти тысяч, а в дальнейшем — и еще того больше. И представьте только: если всех их собрать в одном месте! И не то чтобы в одном городе, а в одном районе.
Около двадцати пяти тысяч человек, должно быть, жили в том крае, насчитывавшем с десяток деревень, который в годы детства казался мне необъятным царством. Я мысленно заселяю тот край столетними. Пусть бы жили они так, чтобы их доходы — отчисления от пенсии — также вкладывались в хозяйство края, а поскольку долгожители составили бы подавляющее большинство населения, то, естественно, к ним перешло бы и известного рода самоуправление. Они всецело руководили бы теми, кто обихаживает их, и теми, кто их обслуживает, равно как и обслуживающим персоналом при самих обслуживающих. Представляю себе структуру общества столетних.
Представить это весьма полезно, я бы даже сказал: полезно и с чисто практической точки зрения. И то правда: разве реальный наш труд и страстные наши мечты не сводятся к тому, чтобы всем нам жить по крайней мере лет до ста? Чтобы стал реальностью мир столетних людей, а там, глядишь, со временем и более старших, нежели столетние! Что в ходе естественного развития рано или поздно привело бы к их правлению.
Невозможно представить себе правления более деспотического. Ведь совершенно ясно, что к ста годам мы будем предельно требовательными, что и объяснимо: именно тогда мы больше всего станем нуждаться в комфорте и особенно в любви. Не того рода любви, какою мы наслаждаемся по заслугам, а другой, и скажем больше, преимущественно той, которой принято добиваться насилием, домогательствами. Посредством какого же неотразимого довода? «Мы умираем! Снизойдите к уходящим из жизни!»
Да, престарелых людей становится все больше, и с годами число их будет неизменно расти. Чем больше отдано душевных сил, тем сильнее человек цепляется за тело. Сегодня стариков в десять раз больше, чем было сто лет назад. А еще через столетие их станет больше в тысячу раз. Близится время, когда землю заселят сплошь одни старцы. И править будут тоже они, вот так-то.
В наше время горы романов завершаются бракосочетанием: герои их по возрасту совсем зелены, не старше двадцати четырех лет. Океанский вал поэзии отображает душевный мир людей еще более юных, которым далеко до вступления в брак; это мир приблизительно двадцатилетних. В дальнейшем литература утратит сию молодежную направленность. В поле зрения писателей попадут старики. Будут созданы художественные произведения о них, для них и — благодаря им.
Эти заметки отнюдь не первые ласточки в писаниях подобного рода. Цель их — не возвеличивание старцев, а напротив: предупреждение, предостережение.
Допускать подобную гипотезу — господство стариков — совсем не значит одобрять его.
Юноше мы прививаем черты, достойные мужчины. В том же духе следует напутствовать и старца.
«Чем больше я старею, тем сильнее во мне готовность жить».
Другими словами: тем естественнее я ощущаю, что живу, что жизнь — вот она! И что она будет длиться впредь, всегда.
Так говорил человек преклонных лет, который, однако, и смолоду был мудр. Сказано это в подтверждение мысли, что душа наша уже в течение нашей жизни проходит определенный отрезок вечности. Что вечность для нее естественна. Что душа там, даже когда она тут, в нас. Стало быть, взаимосвязь существует.
Наверняка мудрец говорил это в шутку. Или же с легкой улыбкой на устах. Но для меня и этой улыбки вполне достаточно: это дверца, чтобы заглянуть по ту сторону глухой стены.
Так как, помимо нее, другой лазейки нет.
Можно вести беседы с божьей коровкой, зная, что та не поймет ни звука, — и никто не сочтет это чудачеством. Можно хоть перед виноградной улиткой декламировать стихотворение, написанное в архаически-старинном ритме, то бишь в ритме четырех- или трехстопной средневековой латинской просодии, — и тут всё воспримут как должное. И в то же время мы осуждающе смотрим на старца, если тот вслух — наконец-то! — беседует с весьма значительной личностью, имеющей для него жизненно важное значение, то есть с самим собой.
Чаще всего старик утешает самого себя. «Ну и черт с нею, разбилась, и ладно!» — доносится из кухни вслед за тем, как звякнули черепки. «Ну приврал я, и пусть приврал!» — произносит другой, пригревшись под осенним солнцем. Кто же предполагаемый слушатель? Смерть. А в действительности прислушивается ли кто-либо ко всем этим монологам? Нет, даже и смерть их не слышит.
Вверх, к дому, ведут ступени, вырубленные на склоне холма, и одна из этих ступеней — перед самым домом — насыпная площадка, обнесенная невысоким каменным парапетом. Когда человек, поднимаясь, проходит этот участок, то поверх площадки видна только его голова.
С книгой в руках я устроился перед домом, взгляд мой прикован к странице; но все же краем глаза я вижу: над площадкой плывет голова — кто-то идет сюда. К тому же, судя по белому платку, это женщина. Я вскидываю взгляд.
Всего лишь белая бабочка порхает над краем площадки.
Вскоре мне снова приходится поднимать глаза.
Опять никого, теперь там скачет какая-то птаха.
И так раз пять-шесть на дню я уличаю свой глаз в заговорщицком заигрывании с окружающим миром. Я смотрю вправо, а в поле зрения слева за деревьями шагает какой-то мужчина. Но нет, это всего лишь качается ветка, одна-единственная, и качается как-то чудно.
Не трудно истолковать эти симптомы. Образ, захватываемый сетчаткой, мозг воспринимает уже далеко не с прежней свежестью и точностью. Может, здесь своего рода дальнозоркость или, вернее сказать, близорукость — вполне допускаю.
Мы сидим за обедом, и мой глаз поверх края тарелки замечает вдруг, как вдоль плинтуса противоположной стены крадется мышь, и весьма неторопливо. Не бежит, а как бы неслышно прогуливается. За ной — другая, и тоже не спеша. И вторая мышь — точно такая же, черная. Черные мыши? Здесь, среди бела дня, в комнате, где ежедневно моют пол? Я поворачиваю голову, пытаюсь взглянуть сбоку и понять, что скрывается за этим явлением.
Нет, не мыши и не в четырех-пяти метрах вдоль стены, а много ближе, в каком-нибудь метре от меня, по краю стола прогуливаются две мухи, перебирая лапками то чуть быстрее, то медленнее.
Сходным образом — меняя угол зрения — приглядываюсь я и к самой человеческой истории. И потому одерживаю верх над кратким отпущенным мне временем.
— Как бы ты определил основные черты революционера? Кого можно назвать революционером? По-моему, революционер — это человек, который, сделав выводы, готов последовательно и неуклонно подтверждать их собственным примером.
— Все зависит от того, о революционере какого типа речь. Ведь революции бывали в разные времена и протекали по-разному.
— Я хотел бы определить духовные особенности такого человека. Исходя из мысли, что революция — это высший миг нетерпимости: когда эксплуатируемые не в силах больше терпеть, а эксплуататоры не могут больше удерживать власть, — привожу по памяти формулировку Ленина. Стало быть, первый признак революционера: человек, который отказывается терпеть, который любой ценой стремится к новому.