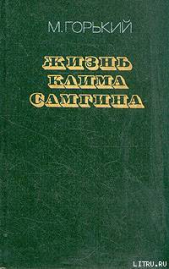Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть четвертая
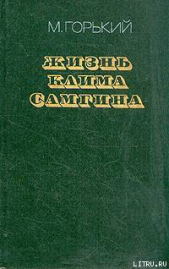
Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть четвертая читать книгу онлайн
15 марта 1925 года М. Горький писал С. Цвейгу: «В настоящее время я пишу о тех русских людях, которые, как никто иной, умеют выдумать свою жизнь, выдумать самих себя» (Перевод с французского. Архив А. М. Горького). «...Очень поглощен работой над романом, который пишу и в котором хочу изобразить тридцать лет жизни русской интеллигенции, – писал М. Горький ему же 14 мая 1925 года. – Эта кропотливая и трудная работа страстно увлекает меня» (Перевод с французского. Архив А. М. Горького).
«...Пишу нечто «прощальное», некий роман-хронику сорока лет русской жизни. Большая – измеряя фунтами – книга будет, и сидеть мне над нею года полтора. Все наши «ходынки» хочу изобразить, все гекатомбы, принесенные нами в жертву истории за годы с конца 80-х и до 18-го» (Архив А. М. Горького).
Высказывания М. Горького о «Жизни Клима Самгина» имеются в его письмах к писателю С. Н. Сергееву-Ценскому, относящихся к 1927 году, когда первая часть романа только что вышла в свет. «В сущности, – писал М. Горький, – эта книга о невольниках жизни, о бунтаре поневоле...» (из письма от 16 августа. Архив А. М. Горького).
И немного позднее:
«Вы, конечно, верно поняли: Самгин – не герой» (из письма от 8 сентября 1927 года. Архив А. М. Горького).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Этот, прокурорчик из Петербурга, давно знаком вам?
— Да.
— Угу! Морозище какой сегодня!
«Ну и — чорт с тобой, старый дурак, — подумал Самгин и усмехнулся: — Должно быть, Тагильский в самом деле насолил им».
К людям он относился достаточно пренебрежительно, для того чтоб не очень обижаться на них, но они настойчиво показывали ему, что он — лишний в этом городе. Особенно демонстративно действовали судейские, чуть не каждый день возлагая на него казенные защиты по мелким уголовным делам и задерживая его гражданские процессы. Все это заставило его отобрать для продажи кое-какое платье, мебель, ненужные книги, и как-то вечером, стоя среди вещей, собранных в столовой, сунув руки в карманы, он мысленно декламировал:
От этих строк самовольно вспыхнули другие:
Тут Самгин вспомнил о мире, изображенном на картинах Иеронима Босха, а затем подумал, что Федор Сологуб — превосходный поэт, но — «пленный мыслитель», — он позволил овладеть собой одной идее — идее ничтожества и бессмысленности жизни.
«Этот плен мысли ограничивает его дарование, заставляет повторяться, делает его стихи слишком разумными, логически скучными. Запишу эту мою оценку. И — надо сравнить «Бесов» Достоевского с «Мелким бесом». Мне пора писать книгу. Я озаглавлю ее «Жизнь и мысль». Книга о насилии мысли над жизнью никем еще не написана, — книга о свободе жизни».
Но тут Самгин нахмурился, вспомнив, что Иван Карамазов советовал: «Жизнь надо любить прежде логики».
«Попробуем еще раз напомнить, что человек имеет право жить для себя, а не для будущего, как поучают Чеховы и прочие эпигоны литературы, — решил он, переходя в кабинет. — Еще Герцен, в сороковых годах, смеялся над позитивистами, которые считают жизнь ступенью для будущего. Чехов, с его обещанием прекрасной жизни через двести, триста лет, развенчанный Горький с наивным утверждением, что «человек живет для лучшего» и «звучит гордо», — все это проповедники тривиального позитивизма Огюста Конта. Эта теория доросла до марксизма, своей еще более уродливой крайности...»
Самгин вздрогнул, ему показалось, что рядом с ним стоит кто-то. Но это был он сам, отраженный в холодной плоскости зеркала. На него сосредоточенно смотрели расплывшиеся, благодаря стеклам очков, глаза мыслителя. Он прищурил их, глаза стали нормальнее. Сняв очки и протирая их, он снова подумал о людях, которые обещают создать «мир на земле и в человецех благоволение», затем, кстати, вспомнил, что кто-то — Ницше? — назвал человечество «многоглавой гидрой пошлости», сел к столу и начал записывать свои мысли.
Через несколько дней он сидел в вагоне второго класса, имея в бумажнике 383 рубля, два чемодана с собою и один в багаже. Сидел и думал:
«Если у меня украдут деньги или я потеряю их, — я приеду в Петербург нищим».
Было обидно: прожил почти сорок лет, из них лет десять работал в суде, а накопил гроши. И обидно было, что пришлось продать полсотни ценных книг в очень хороших переплетах.
Ехал он в вагоне второго класса, пассажиров было немного, и сквозь железный грохот поезда звонким ручейком пробивался знакомый голос Пыльникова.
— четко скандировал приват-доцент, а какой-то сердитый человек басовито кричал:
— Что это — одеколон пролили? Дышать нечем! По вагону, сменяя друг друга, гуляли запахи ветчины, ваксы, жареного мяса, за окном, в сероватом сумраке вечера, двигались снежные холмы, черные деревья, тряслись какие-то прутья, точно грозя высечь поезд, а за спиною Самгина, покашливая, свирепо отхаркиваясь, кто-то мрачно рассказывал:
— Одного ингуша — убили, другого — ранили, трое остальных повезли раненого в город, в больницу и — пропали...
— Сударыня, — торжествующе взывал Пыльников. — Все-таки, все-таки — как же вы решаете вопрос о смысле бытия? Божество или человечество?
Против Самгина лежал вверх лицом, закрыв глаза, длинноногий человек, с рыжей, остренькой бородкой, лежал сунув руки под затылок себе. Крик Пыльникова разбудил его, он сбросил ноги на пол, сел и, посмотрев испуганно голубыми глазами в лицо Самгина, торопливо вышел в коридор, точно спешил на помощь кому-то.
— Разрыв дан именно по этой линии, — кричал Пыльников. — Отказываемся мы от культуры духа, построенной на религиозной, христианской основе, в пользу культуры, насквозь материалистической, варварской, — отказываемся или нет?
Как-то вдруг все запахи заглушил одеколон, а речь Пыльникова покрылась надсадным кашлем и суровой, громко сказанной фразой:
— Не пороть, а руки рубить надо было, руки!
— Ну, все же страха нагнали достаточно пеньковыми-то галстуками...
— А — убытки? Кто мне убытки возместит?
И снова всплыл победительный голосок Пыльникова:
— А вы убеждены в достоверности знания? Да и — при чем здесь научное знание? Научной этики — нет, не может быть, а весь мир жаждет именно этики, которую может создать только метафизика, да-с!
«Хаос, — думал Самгин, чувствуя, что его отравляют, насильно втискивая в мозг ему ненужные мысли. — Хаос...»
Еще недавно ему нравилось вслушиваться в растрепанный говор людей, он был уверен, что болтливые пассажиры поездов, гости ресторанов, обогащая его знанием подлинной житейской правды, насыщают плотью суховатые системы книжных фраз. Но он уже чувствовал себя перенасыщенным, утомленным обилием знания людей, и ему казалось, что пришла пора крепко оформить все, что он видел, слышал, пережил, в свою, оригинальную систему. Но вот, точно ветер в комнату сквозь щели плохо прикрытых окон и дверей, назойливо врывается нечто уже лишнее, ненужное, но как будто незнакомое. Вспомнилось, как Пыльников, закрыв розовое лицо свое зеленой книжкой, читал:
«Я видел в приюте слепых, как ходят эти несчастные, вытянув руки вперед, не зная, куда идти. Но все человечество не есть ли такие же слепцы, не ходят ли они в мире тоже ощупью?»
«Я знаю, куда иду, знаю, чего хочу», — сказал Самгин себе.
В коридоре появился длинноногий человек с рыженькой бородкой, его как бы толкала дородная женщина, окутанная серой шалью.
— Понимаешь? — вполголоса, но очень внятно и басовито спрашивала она. — В самом центре.
— Не верится, — пробормотал сосед Самгина.
— Да, да! Провокатор в центре партии. Факт! Отстранив длинного человека движением руки, она прошла в конец вагона, а он пошатнулся, сел напротив Самгина и, закусив губу, несколько секунд бессмысленно смотрел в лицо его.
«Сейчас начнет говорить», — подумал Самгин, но тут явился проводник, зажег свечу, за окном стало темно, загремела жесть, должно быть, кто-то уронил чайник. Потом в вагоне стало тише, и еще более четко зазвучал сверлящий голосок доцента:
— Вопрос не в том, как примирить индивидуальное с социальным, в эпоху, когда последнее оглушает, ослепляет, ограничивает свободу роста нашего «я», — вопрос в том, следует ли примирять?
— Дайте спичку, — жалобно попросил сосед Самгина у проводника; покуда он неловко закуривал, Самгин, поворотясь спиной к нему, вытянулся на диване, чувствуя злое желание заткнуть рот Пыльникова носовым платком.
Петербург встретил Самгина морозным, холодно сияющим утром. На бронзовой шапке и на толстых плечах царя Александра сверкал иней, игла Адмиралтейства казалась докрасна раскаленной и точно указывала на белое, зимнее солнце. Несколько дней он прожил плутая по музеям, вечерами сидя в театрах, испытывая приятное чувство независимости от множества людей, населяющих огромный город. Картины, старинные вещи, лаская зрение пестротой красок, затейливостью форм, утомляли тоже приятно. Артисты в театрах говорили какие-то туманные, легкие слова о любви, о жизни.