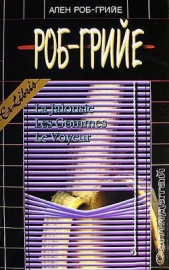Соглядатай (сборник)

Соглядатай (сборник) читать книгу онлайн
"Соглядатай" - роман, занимающий особое место в многообразном, многоуровневом творчестве В. Набокова. Практически впервые здесь набоковская проза, обычно - холодно-изящная, становится нервной, захлебывающейся, угловатой. Экспрессионистская ли эстетика довлеет здесь над "вечной" для писателя темой эмигрантской трагедии - или, напротив, тоска выломившейся из прошлого и утратившей надежду на будущее "России в изгнании" задает неровный, "дерганный" ритм повествования? Мнений может быть много, но - какое из них верное? Решите сами...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это была теперь все та же красавица с очаровательным разрезом широко расставленных глаз и той редчайшей линией губ, в которой как бы уже заключена вся геометрия улыбки. Но волосы потеряли лоск, были плохо подстрижены, черному костюму пошел четвертый год, руки с блестящими, но неряшливыми ногтями были в выпуклых жилках и дрожали от нервности, от хулиганского курения, — и лучше умолчать о состоянии чулок.
Теперь, когда в сумке шелковые внутренности были так изодраны — (по крайней мере всегда была надежда найти беглый грош); теперь когда такая усталость: теперь, когда, надевая единственные башмаки, она заставляла себя не думать об их подошвах, точно так же как, входя наперекор чести в табачную лавку, запрещала себе думать, сколько уже там задолжала; теперь, когда не было ни малейшей надежды вернуться в Россию, — а ненависть сделалась столь привычной, что почти перестала быть грехом; теперь, когда солнце зашло за трубу, — Ольга Алексеевна терзалась иногда роскошью каких-то реклам, написанных слюной Тантала, воображая себя богатой, вон в том платье, набросанном при помощи трех-четырех наглых линий, на той палубе, под той пальмой, у балюстрады белой террасы. Ну и еще кое-чего ей недоставало.
Однажды, едва ее не сбив с ног, из телефонной будки вихрем вымахнула Верочка, подруга прежних лет, как всегда спешащая, с пакетами, с мохноглазым терьером, поводок которого обвился дважды вокруг ее юбки. Она накинулась на Ольгу Алексеевну, умоляя ее приехать к ним на дачу, говоря, что это судьба, что это замечательно, и как тебе живется, и много ли поклонников. “Нет, матушка, годы не те, — отвечала Ольга Алексеевна, — да кроме того...” Она прибавила маленькую подробность, и Верочка покатилась со смеху, склоняя пакеты до земли. “Серьезно”, — сказала Ольга Алексеевна с улыбкой. Верочка продолжала уговаривать ее, дергая терьера, вертясь. Ольга Алексеевна, вдруг заговорив в нос, заняла у нее денег.
Верочка была мастерица устраивать всякие штуки, будь то крюшон, виза или свадьба. Теперь она с упоением занялась судьбой Ольги Алексеевны. “В тебе проснулась сваха”, — шутил ее муж, пожилой балтиец, — обритая голова, монокль. В яркий августовский день приехала Ольга Алексеевна, была мгновенно переодета в верочкино платье, перечесана, перекрашена, — она лениво ругалась, но уступала, — и как празднично стреляли половицы в веселой дачке, как вспыхивали в зеленом плодовом саду висячие зеркальца для острастки птиц! Приехал на неделю погостить некто Форсман, русский немец, состоятельный вдовец, спортсмен, автор охотничьих книг. Он сам давно просил Верочку подыскать ему невесту — “настоящую русскую красоту”. У него был крупный, крепкий нос, с тончайшей розовой венкой на высокой горбинке. Он был вежлив, молчалив, минутами даже угрюм, — но умел тотчас же, как-то под шумок, подружиться навеки с собакой или с ребенком. С его приездом на Ольгу Алексеевну напала дурь; вялая и злая, она все делала не то, что следовало, — и сама чувствовала, что не то, — и когда речь заходила о бывшей России (Верочка старалась заставить ее блеснуть прошлым), ей казалось, что она все врет, и что все понимают, что она врет, — и потому она упорно не говорила всего того, что Верочка старалась напоказ из нее извлечь, да и вообще не давала ничему наладиться. Хлопали в карты на веранде и толпой гуляли в лесу, — но Форсман все больше разговаривал с верочкиным мужем, вспоминая какие-то проделки юности, и оба докрасна наливались смехом и, отстав, падали на мох. Накануне отъезда Форсмана играли как всегда по вечерам в карты на веранде; вдруг Ольга Алексеевна почувствовала невозможное сжатие в горле, — ей удалось все же улыбнуться и без особого спеха уйти. К ней стучалась Верочка, но она не открыла. Среди ночи перебив сонмище сонных мух в низкой комнате и так накурившись, что уже не могла затягиваться, Ольга Алексеевна, в раздражении, в тоске, ненавидя себя и всех, вышла в сад; там трещали сверчки, качались ветви, изредка падало с тугим стуком яблоко, и луна делала гимнастику на беленой стене курятника. Рано утром она вышла опять и села на уже горячую ступень. Форсман в синем купальном халате сел рядом с ней и, кашлянув, спросил, согласна ли она стать его супругой — так и сказал: “супругой”. Когда они пришли к завтраку, то Верочка, ее муж и его кузина, совершенно молча, в разных углах танцевали несуществующие танцы, и Ольга Алексеевна ласково протянула: “Вот хамы”, — а следующим летом она умерла от родов. Это все. То есть может быть и имеется какое-нибудь продолжение, но мне оно неизвестно, и в таких случаях, вместо того, чтобы теряться в догадках, повторяю за веселым королем из моей любимой сказки: Какая стрела летит вечно? — Стрела, попавшая в цель.
13. ОПОВЕЩЕНИЕ
У Евгении Исаковны, старенькой, небольшого формата, дамы, носившей только черное, накануне умер сын. Она еще ничего об этом не знала.
Шел утром дождь, дело было ранней весной, одна часть Берлина отражалась в другой, — пестрое зигзагами в плоском — и так далее. Чернобыльские, старые друзья Евгении Исаковны, получили около семи утра телеграмму из Парижа, а спустя два часа — письмо (по воздуху). Фабрикант, у которого с осени служил Миша, сообщал, что бедный молодой человек упал в пролет лифта с верхней площадки, — и еще после этого мучился сорок минут, был без сознания, но ужасно и непрерывно стонал — до самого конца.
Между тем Евгения Исаковна встала, оделась, накинула на острые плечи черный вязаный платок и на кухне сварила себе кофе. Истовым благоуханием своего кофе она гордилась перед фрау доктор Шварц, у которой жила, — скупой, некультурной скотиной, — с нею Евгения Исаковна вот уже целую неделю не разговаривала, — и это была далеко не первая ссора, — но съезжать не хотелось — по всяким причинам, не раз перечисленным, но никогда не скучным. Несомненное превосходство Евгении Исаковны над тем или другим лицом, с которым она решала временно прервать сношения, состояло в следующем: просто выключался слух, весь помещавшийся у нее в черном аппаратике наподобие сумки.
Проходя с готовым кофе обратно к себе через прихожую, она увидела, как впорхнула в щель и села на пол открытка, просунутая почтальоном. Открытка была от сына, — о смерти которого Чернобыльские только что получили известие более совершенными почтовыми путями, — так что строки (в сущности недействительные), которые она сейчас читала, стоя на пороге своей большой нелепой комнаты, с кофейником в руке, можно было бы уподобить все еще зримым лучам звезды, уже потухшей. “Золотая моя Мулечка, — писал сын, так ее звавший с детства, — я по-прежнему по горло занят и по вечерам прямо валюсь с ног, почти не бываю нигде...”
Через две улицы, в такой же нелепой, загроможденной чужими пустяками, квартире Чернобыльский, не поехав сегодня “в город”, шагал по комнатам, большой, жирный, лысый, с громадными дугами бровей и маленьким ртом, в темном костюме, но без воротничка (воротничок с продетым галстуком висел хомутом на спинке стула в столовой), шагал и говорил, разводя руками:
“Как я ей скажу? Какие тут могут быть переходы, когда нужно орать? Ах ты Боже мой, какой это ужас... У ней сердце не выдержит и разорвется, у несчастной”.
Его жена плакала, курила, скребла в жидких седых волосах, звонила Липштейнам, Леночке, доктору Оршанскому — и все никак не могла решиться пойти первой к Евгении Исаковне. Жилица Чернобыльских, пианистка в пенсне, с полной грудью, чрезвычайно сердобольная и опытная, советовала не слишком спешить с извещением, — все равно будет этот удар, — так пускай будет позже.
“Но с другой стороны, — вскрикивал Чернобыльский, — нельзя и откладывать! Это ясно, что нельзя. Она мать, она еще захочет может быть в Париж (я знаю?), или чтобы везли сюда. Бедный, бедный Мишук, бедный мальчик, двадцать три года, вся жизнь впереди... Главное — я же советовал, я же его устроил, — подумать, что если б он в этот паршивый Париж...”.
“Ну что вы, Борис Львович, — рассудительно говорила жилица, — кто это мог предвидеть, при чем тут вы, это смешно. Я вообще, между прочим, не понимаю, как он мог упасть. Вы — понимаете?”