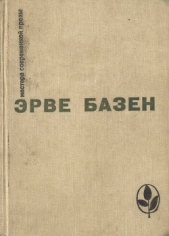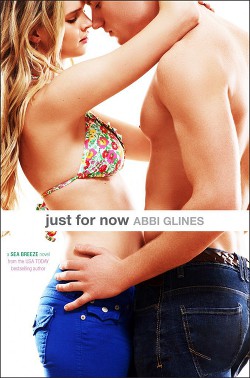Смерть лошадки

Смерть лошадки читать книгу онлайн
Трилогия французского писателя Эрве Базена («Змея в кулаке», «Смерть лошадки», «Крик совы») рассказывает о нескольких поколениях семьи Резо, потомков старинного дворянского рода, о необычных взаимоотношениях между членами этой семьи. Действие романа происходит в 60-70-е годы XX века на юге Франции.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Ты уже…
Новый зевок, проглотивший новое для нее местоимение. Одно веко отпарывается от щеки, потом второе, открывая влажные зрачки глубоких глаз с поволокой. Одна рука высовывается из-под одеяла, хватается за спасителя, который ныряет в клокотание простынь, и проходит еще добрых пять минут, прежде чем на поверхности показывается растрепанная головка и задыхающийся рот четко произносит во втором лице единственного числа:
— Ты хорошо спал? Ты хочешь завтракать? Ты уже побрился?
Я бросаюсь к своим брюкам. Потом открываю окно: нынче утром воздух приобрел удивительное свойство — доносящийся издали голос консьержки почему-то не такой дребезжащий, как обычно. Отвернувшись от окна, я обнаруживаю, что потолок много белее, чем вчера, что моя комната вовсе уж не такая пустая… А в кровати никого нет. Моника странствует по квартире взамен свадебного путешествия (у нас на него не было ни времени, ни денег, но я об этом не жалею: мне непременно казалось бы, что, покидая типичный гостиничный номер, я что-то в нем оставил).
— Где у тебя чайные ложечки?
Иду на кухню к жене. С полдюжины предметов уже переселились на новые места. В самой маленькой из моих трех кастрюль, бывших когда-то эмалированными, кипит вода. Чайных ложечек у меня нет. А кружка только одна. Я сажусь. И если я нахмурил ту бровь, что лежит чуть выше другой, то лишь потому, что жена уселась ко мне на колени, должно быть, у нас обоих просто умилительно идиотский вид! Я хотел было надуться, но мне не удается. Сварив кофе, Моника принялась рыться, убираться, разбираться. Она носится вприпрыжку, напевает, кружится на одной ножке и наконец замирает перед тюлевой волной, в которой щеголяла вчера и которая сейчас висит на плечиках. Попробую вмешаться:
— Из нее нельзя даже занавески сделать.
Моника ничего не отвечает. Задрав нос, касаясь пальцем уха, она мечтает, нет, прикидывает.
— Вполне хватит на полог для колясочки, — говорит она.
Ай-ай-ай! Моя бровь не выносит такого рода неловких положений, моя бровь протестует. Впрочем, зря, ибо Моника аккуратно сняла с плечиков свой тюль, сложила его втрое, засунула в чемодан, временно заменяющий комод. Она не вспыхнула, не моргнула, не похоже, чтобы она собиралась возвестить о непорочном зачатии. Просто заперла свой чемодан, поднялась, распрямила спину и, не зная капризного нрава знаменитой брови, ущипнула ее двумя пальцами и, потянув книзу, пошутила:
— На что это она жалуется?
Моника ничего не добавила, а если и спросила меня, то лишь одними глазами, серый цвет которых принял металлический оттенок и которые, пробуравленные точечкой зрачка, ужасно напоминают монеты в одно су. Грошик моего везения! Заявляю вам, ХГ, что вы настоящий осел. Ваша жена не ангел, не зверь, а на редкость простой человек и к тому же решительный. Скотина, вот кто вы. А что касается ангела, так я знаю одного черного, которому здесь нечего делать и который, хлопая крыльями, убирается прочь.
27
Мед.
Пчелы, приносившие в мае этот мед, несомненно, обладали жалом. «Самый пылкий влюбленный, — гласит индийская мудрость, — ненавидит свою жену по крайней мере восемь часов в день». Я не ненавидел Монику, но ссорились мы азартно. Прежде всего мне надо было оставаться в форме. У наступавшего через минуту примирения был чуть кисленький вкус, а именно в этом нуждались мои десны, привыкшие к едкой кислоте. Наконец, скажу вам прямо: было две Моники, одна импульсивная, другая рассудительная. Первая в течение целых суток демонстрировала мне свои маленькие причуды, свои грешки, свои тонны молчания, свои гримаски исподтишка, приставания и это молниеносное движение, которым она сбрасывала платье, прикрывавшее маленькую крепкую грудь… Зато вторая донимала меня своими хозяйственными добродетелями, худшей из коих было безоговорочное согласие со всем, что делается, говорится, думается или что принято. Эта соглашательница повсюду пришпиливала слово «хорошо», не догадываясь, что оно означает «ничто» (как слово «порядочный» утрачивает свой прямой смысл в выражении «порядочная дрянь»), и понятно, что ее вечное со всем согласие было просто бунтом против моих отказов (ибо покоренные способны лишь на этот, единственный, вид бунта). Моника соглашалась вся — с ног до головы. Когда она соглашалась телом — мы оба не жаловались. Худо, что она соглашалась также и головой, где у нее засели свои идеи, как бывают волосы с виду вроде дымки, а на самом деле вросшие чуть ли не в мозговую оболочку. Не будем говорить о ее покорности перед авторитетами! Ими определяется ее выбор книг для чтения (мэтр Ган), ее религиозность (наставница-монахиня), ее техника подмазывания губ (Габриель), ее кулинарные рецепты (мадемуазель Арбэн). Только и слышно было «тетя» да «тетя». Мы еще не отпраздновали недели со дня свадьбы, а я уже начал считать милую тетю несколько обременительной особой.
Теперь, как только я слышал, что Моника разбивает первое яйцо об угол газовой плиты, я всякий раз провозглашал:
— Омлет с шампиньонами а-ля Катрин Арбэн!
Чаще всего Моника молчала, только быстрее обычного швыряла в помойное ведро яичную скорлупу. Однажды она все-таки не выдержала и дала мне отпор:
— Сегодня омлет а-ля Резо. Нужно взять поганки, хорошенько их перемешать, посыпать мышьяком, залить тремя яйцами, предпочтительно тухлыми…
Конец фразы был заглушен стуком вилки, яростно взбивавшей клейкое золото желтков. Впрочем, это не значило, что мы расквитались. В тот же вечер, когда я объяснил Монике, почему я не поклонился уже не помню какому из друзей своей матери, которого я встретил днем, и что мое поведение в данном случае «вполне естественно», раз этот тип рассчитывает на сугубо вежливое отношение со стороны членов нашей семьи, она воскликнула:
— В сущности, у тебя тоже есть свои авторитеты, только ты пользуешься ими наоборот.
Опять взяла верх! Ужасно неприятно обнаруживать в себе недостатки, в которых сам упрекаешь ближнего. Когда соломинка приподнимает бревно и обрушивает его нам на голову, от нас остается мокрое место. Однако худшее даже не в том, что Моника была права. Для меня и на самом деле существовало два мерила ценности вещей: одно прежнее, идущее от нашей семьи и уже поэтому вызывающее у меня желание противоречить, и другое сравнительно недавнего происхождения и ценное одним тем, что было связано с Ладурами, с Поль, с Моникой. Кроме того, все эти «за» и «против» смешались во мне, и их нагромождение повергало меня в растерянность: такова участь каждого, кто делает ставку на чужие критерии и у кого суждение лишь придаток к дурному нраву. Моя мать была благомыслящей. Как же она могла быть неправа, коль скоро она моя мать, если права Моника, коль скоро она моя жена? Если даже я и провозглашу, просто желая выпутаться из этого противоречия, что мнения моей матери были вскормлены корыстью, а взгляды Моники — великодушной наивностью, все равно и те и другие где-то смыкаются. Скандальное смешение! Прискорбно уже и то, что моя жена одного пола с моей матерью. Хватает и этого! Те, кого я люблю, и те, кого я ненавижу, не должны иметь никаких точек соприкосновения. Понадобятся еще годы и годы, прежде чем я откажусь от философии предвзятости. Поль уже разоблачила меня, бросив мне как-то:
— Ну и сектант! Из тебя получится превосходный политикан!
Примерно то же самое, но в другой форме означало восклицание Моники, когда я заметил ей, что она ложится слишком рано, что именно в этот час мадам Резо отсылала нас, детей, спать.
— Не могу же я отказаться от всего только потому, что так делали у вас дома. Надеюсь, вы ели? Так вот, запомни, и мне, бывает, хочется есть.
Эти трения были не единственными. Нашу близость — вообще-то вполне благополучную — еще следовало обкатать. Ось (ось — это, конечно, я) слишком зажимала колесо. Желание мужчины не расставаться с женщиной для нее всегда лестно, и я пока не слышал, чтобы оно ей приедалось. Но я еще не овладел искусством давать передышку, свободу действия, не навязывать своего присутствия, избегать вечных «куда ты идешь?», взоров крепостника, клохтания наседки. Говорят, что мужчина ревнует к прошлому, а женщина — к настоящему (и именно поэтому мужчина предпочитает быть первой любовью женщины, ибо его ревность идет от духа творящего, тогда как женщина предпочитает быть последней любовью мужчины, ибо ее ревность идет от духа соперничества). Не то чтобы я особенно ревновал к прошлому (несуществующему), или к настоящему (занятому мною), или к будущему Моники. Я не ревновал ее во времени, а ревновал в пространстве. Меня одного должно было хватать, чтобы заполнить все ее пространство. Ты уходишь, я ухожу, мы уходим: ambo! [10]