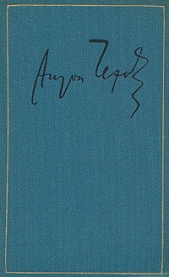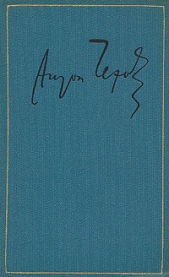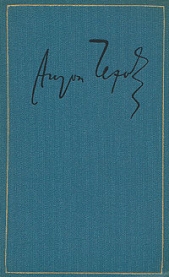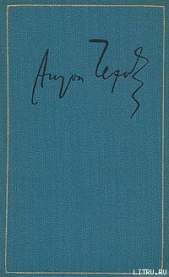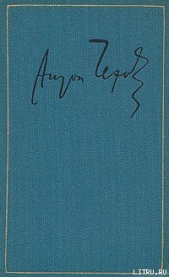Рассказы. Юморески. «Драма на охоте». 1884—1885
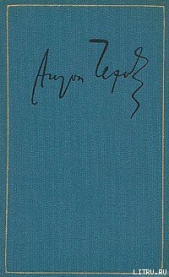
Рассказы. Юморески. «Драма на охоте». 1884—1885 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вечером того же дня Любовь Петровна сидит у себя в кабинете и пишет старинной петербургской подруге письмо:
«Сегодня, по примеру прошлых лет, — пишет она между прочим, — у меня была панихида по покойном. Были на панихиде все мои соседи. Народ грубый, простой, но какие сердца! Угостила я их на славу, но, конечно, как и в те годы, горячих напитков — ни капли. С тех пор, как он умер от излишества, я дала себе клятву водворить в нашем уезде трезвость и этим самым искупить его грехи. Проповедь трезвости я начала со своего дома. Отец Евмений в восторге от моей задачи и помогает мне словом и делом. Ах, ma chère [79], если б ты знала, как любят меня мои медведи! Председатель земской управы Марфуткин после завтрака припал к моей руке, долго держал ее у своих губ и, смешно замотав головой, заплакал: много чувства, но нет слов! Отец Евмений, этот чудный старикашечка, подсел ко мне и, слезливо глядя на меня, лепетал долго что-то, как дитя. Я не поняла его слов, но понять искреннее чувство я умею. Исправник, тот красивый мужчина, о котором я тебе писала, стал передо мной на колени, хотел прочесть стихи своего сочинения (он у нас поэт), но… не хватило сил… покачнулся и упал… С великаном сделалась истерика… Можешь представить мой восторг! Не обошлось, впрочем, и без неприятностей. Бедный председатель мирового съезда Алалыкин, человек полный и апоплексический, почувствовал себя дурно и пролежал на диване в бессознательном состоянии два часа. Пришлось отливать его водой… Спасибо доктору Дворнягину: принес из своей аптеки бутылку коньяку и помочил ему виски, отчего тот скоро пришел в себя и был увезен…»
Живая хронология.
Гостиная статского советника Шарамыкина окутана приятным полумраком. Большая бронзовая лампа с зеленым абажуром красит в зелень à la «украинская ночь» стены [80], мебель, лица… Изредка в потухающем камине вспыхивает тлеющее полено и на мгновение заливает лица цветом пожарного зарева; но это не портит общей световой гармонии. Общий тон, как говорят художники, выдержан.
Перед камином в кресле, в позе только что пообедавшего человека, сидит сам Шарамыкин, пожилой господин с седыми чиновничьими бакенами и с кроткими голубыми глазами. По лицу его разлита нежность, губы сложены в грустную улыбку. У его ног, протянув к камину ноги и лениво потягиваясь, сидит на скамеечке вице-губернатор Лопнев, бравый мужчина, лет сорока. Около пианино возятся дети Шарамыкина: Нина, Коля, Надя и Ваня. Из слегка отворенной двери, ведущей в кабинет г-жи Шарамыкиной, робко пробивается свет. Там за дверью, за своим письменным столом сидит жена Шарамыкина, Анна Павловна, председательница местного дамского комитета, живая и пикантная дамочка, лет тридцати с хвостиком. Ее черные бойкие глазки бегают сквозь пенсне по страницам французского романа. Под романом лежит растрепанный комитетский отчет за прошлый год.
— Прежде наш город в этом отношении был счастливее, — говорит Шарамыкин, щуря свои кроткие глаза на тлеющие уголья. — Ни одной зимы не проходило без того, чтобы не приезжала какая-нибудь звезда. Бывали и знаменитые актеры и певцы, а нынче… чёрт знает что! — кроме фокусников да шарманщиков никто не наезжает. Никакого эстетического удовольствия… Живем, как в лесу. Да-с… А помните, ваше превосходительство, того итальянского трагика… как его?.. еще такой брюнет, высокий… Дай бог память… Ах, да! Луиджи Эрнесто де Руджиеро… Талант замечательный… Сила! Одно слово скажет, бывало, и театр ходором ходит. Моя Анюточка принимала большое участие в его таланте. Она ему и театр выхлопотала и билеты на десять спектаклей распродала… Он ее за это декламации и мимике учил. Душа человек! Приезжал он сюда… чтоб не соврать… лет двенадцать тому назад… Нет, вру… Меньше, лет десять… Анюточка, сколько нашей Нине лет?
— Десятый год! — кричит из своего кабинета Анна Павловна. — А что?
— Ничего, мамочка, это я так… И певцы хорошие приезжали, бывало… Помните вы tenore di grazia [81] Прилипчина? Что за душа человек! Что за наружность! Блондин… лицо этакое выразительное, манеры парижские… А что за голос, ваше превосходительство! Одна только беда: некоторые ноты желудком пел и «ре» фистулой брал, а то всё хорошо. У Тамберлика, говорил, учился… Мы с Анюточкой выхлопотали ему залу в общественном собрании, и в благодарность за это он, бывало, нам целые дни и ночи распевал… Анюточку петь учил… Приезжал он, как теперь помню, в Великом посту, лет… лет двенадцать тому назад. Нет, больше… Вот память, прости господи! Анюточка, сколько нашей Надечке лет?
— Двенадцать!
— Двенадцать… ежели прибавить десять месяцев… Ну, так и есть… тринадцать!.. Прежде у нас в городе как-то и жизни больше было… Взять к примеру хоть благотворительные вечера. Какие прекрасные бывали у нас прежде вечера. Что за прелесть! И поют, и играют, и читают… После войны, помню, когда здесь пленные турки стояли [82], Анюточка делала вечер в пользу раненых. Собрали тысячу сто рублей… Турки-офицеры, помню, без ума были от Анюточкина голоса, и всё ей руку целовали. Хе, хе… Хоть и азиаты, а признательная нация. Вечер до того удался, что я, верите ли, в дневник записал. Это было, как теперь помню, в… семьдесят шестом… нет! в семьдесят седьмом… Нет! Позвольте, когда у нас турки стояли? Анюточка, сколько нашему Колечке лет?
— Мне, папа, семь лет! — говорит Коля, черномазый мальчуган с смуглым лицом и черными, как уголь, волосами.
— Да, постарели, и энергии той уж нет!.. — соглашается Лопнев, вздыхая. — Вот где причина… Старость, батенька! Новых инициаторов нет, а старые состарились… Нет уж того огня. Я, когда был помоложе, не любил, чтоб общество скучало… Я был первым помощником вашей Анны Павловны… Вечер ли с благотворительною целью устроить, лотерею ли, приезжую ли знаменитость поддержать — всё бросал и начинал хлопотать. Одну зиму, помню, я до того захлопотался и набегался, что даже заболел… Не забыть мне этой зимы!.. Помните, какой спектакль сочинили мы с вашей Анной Павловной в пользу погорельцев?
— Да это в каком году было?
— Не очень давно… В семьдесят девятом… Нет, в восьмидесятом, кажется! Позвольте, сколько вашему Ване лет?
— Пять! — кричит из кабинета Анна Павловна.
— Ну, стало быть, это было шесть лет тому назад… Да-с, батенька, были дела! Теперь уж не то! Нет того огня!
Лопнев и Шарамыкин задумываются. Тлеющее полено вспыхивает в последний раз и подергивается пеплом.
Служебные пометки.
В книге «входящих» под литерой Д, № 8, год 80—81, на полях и пустых местах имеются карандашные пометки, сделанные разными почерками. Так как все они носят печать мудрости и полны высокого значения, то надо думать, что они принадлежат лицам начальствующим. Выбираю самые лучшие и характерные:
«Так и быть. Дать отсрочку на 2 месяца и сказать ему, чтобы он в другой раз не смел входить в присутствие в калошах».
«На прошение губернского секретаря Осетрова об единовременном пособии могу ответить указанием на Римскую империю, погибшую от роскоши. Роскошь и излишества ведут к растлению нравов; а я желаю, чтобы все были нравственны. Впрочем, пусть Осетров сходит в вицмундире к купцу Хихикину и скажет ему, что его дело близится к концу».
«Птица узнается по перьям, хороший проситель по благодарности».
«Хотя по точному смыслу ст. 64, п. 1 Уст. о герб. сборе прошения о выдаче свидетельств о бедности не подлежат гербовому сбору, но, тем не менее, объявить вдове Вониной, что в неприлеплении ею шестидесятикопеечной марки я усматриваю не столько понимание духа законов, сколько желание действовать самовольно помимо указаний надлежащего начальства. Если действительно не нужна была бы марка, то отлепили бы мы ее сами, она же распоряжаться не может. Отказать».