Губернатор
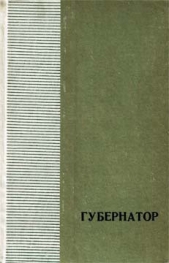
Губернатор читать книгу онлайн
Повесть впервые опубликована в горьковском сборнике «Знание» по рекомендации А. М. Горького в 1912 г. Автор описывает жизнь губернского города Ставрополя в период с 1905 по 1910 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я не знаю, что делать, — тихо сказал он, опускаясь на стул, — не знаю. Не могу дать себе отчета.
— А я, — сказал высокий человек, — знаю, что это правда. Я это чувствую.
— Что это? — спросил губернатор, поднимая голову.
— А вот то, что мне конец через шесть месяцев. Это чувствуется вот здесь, везде, — и он провел по груди ладонью и продолжал: — Я прошу вас об одном. Отпустите меня. Даю вам честное слово, что я не убегу от суда. Останусь здесь. А теперь отпустите.
— Вы будете отпущены, — сказал губернатор, долго думал и, наконец, нерешительно спросил: — только скажите, пожалуйста, за что вы убили полицмейстера?
Высокий человек вздернул плечами.
— Странный вопрос, — сказал он, и запухшая щелка глаза немного блеснула и расширилась, — я не убивал никого. Я не разбойник. Я дрался на дуэли. Он сам вызвал меня и мог меня убить так же, как я — его. Неужели вы таких простых вещей не понимаете? — раздраженно спросил он.
Губернатор чувствовал себя смятым, разбитым, знал, что сейчас скажет ненужную вещь, и все-таки сказал:
— А почему у вас дуэль была?
Высокий человек сначала, видимо, хотел сказать все сразу, но потом остановился, в голове у него протекли быстрые думы, и он вымолвил:
— Очень просто. Я люблю его жену, и она любит меня. А его не любила. Совершился поединок, божий суд, если хотите. И бог решил: пусть она принадлежит тому, кого любит. Если хотите.
— Откуда вы? — с напряжением спрашивал губернатор.
— Мне кажется, это неважно! — ответил высокий человек.
— Я вас не знаю, — говорил губернатор.
— И я вас не знаю, — послышался глухой ответ, — я знаю, что от меня отняли мир, мою любовь, — по какому праву? Кто посмел?
Опять долго молчали, стоя друг перед другом.
— Вы убили его. Теперь убили вас. А она? — словно сам с собою говорил губернатор. — Когда он умирал, она целовала ему руку.
— Ложь! — тихо сказал высокий человек.
Губернатор внимательно посмотрел на него и добавил:
— Право, я не лгу. Целовала.
Высокий человек отвернулся в сторону и ответил, видимо, своим мыслям:
— Все равно, — и вдруг добавил: — Простите, мне трудно стоять на ногах. — Пошел к печке и сел там на стул с плетеным кружком. Губернатор по-прежнему остался у стола.
— Вы вот что, — сказал наконец он, — около крыльца стоит мой извозчик, — садитесь и поезжайте.
Высокий человек поднялся и спросил;
— А меня пропустят здесь? — и показал рукой на дверь.
— Не беспокойтесь, — ответил губернатор, сам проводил его до лестницы, нагнулся в пролет и крикнул:
— Не задерживать!
Скоро в комнату явились Крыжин и Пыпов, У Пыпова губернатор спросил:
— Правда, ты его убил?
— Правда, — ответил Пыпов.
— Отбил внутренности?
— Отбил.
— Кто ж тебе позволил?
— Сам себе позволил. Без всяких позволениев. Ссылайте в Сибирь, вот и все! — тупо отвечал Пыпов.
А когда он, грузный и широкий, ушел, Крыжин вдруг стал на колени, протянул к губернатору, как к богу, руки и просил:
— Ради творца всевышняго… Ради святой его крови… Умоляю вас ангелами небесными… Крест поцелую! Присягу похоронную приму! Ваше превосходительство! Ваше Превосходительство!
И когда губернатор, не ответив ему, пошел по лестнице, Крыжин полз за ним на коленях и кричал вниз:
— Ваше превосходительство!
Кудрявый старенький Шульман и лысый, странно, глубоко моргающий ротмистр вышли в коридор и смотрели на него.
Хоронили полицмейстера в ясный день. Была прозрачна и спокойна даль с отчетливыми очертаниями вокзала, маневрирующих поездов, спускающегося к земле неба.
Губернатор вспоминал лицо полицмейстера, и все время ему казалось, что у покойника нет глаз, вспоминал и не мог представить себе голоса, каким говорил он.
Листья деревьев, пожелтевшие, внутрь завернувшиеся, тихо и покорно падали. Отпевали полицмейстера в соборе: много кадили, и было видно, как в солнечном луче переливаются, купаясь, волны душистого дыма. Служили медленно, ходили в черных ризах важно, дьякона говорили басами и концы прошений печально затягивали вверх. На последнюю великую панихиду, после обедни, обещал приехать архиерей Герман, но с самого утра заболел лихорадкой, которую захватил еще в Китае.
— Да и это бы ничего, — говорил он губернатору по телефону, — но вот беда. От лихорадки я спасаюсь чем? Пью водку с лимонным соком. Кружится голова: станешь на кафедру, еще бухнешься.
Службу по этой причине правил соборный протоиерей, — красивый, лысый старик, в полинявшей, с серыми пятнами камилавке. По обе стороны его, вдоль гроба, стояли со свечами священники, и черные ризы их говорили о великом посте, о ранней весне, когда на реках начинает трещать лед и прилетают скворцы.
Губернатору не нравилось пение, хотя было видно, что хор, а в особенности первые басы старались. Когда пели «Надгробное рыдание», то на слоге «да» получалось удивительно красивое и звучное сочетание голосов, и совершенно неожиданно, из далекого детства, когда учили играть на рояле, губернатору вспомнился музыкальный термин:
— Доминант септ аккорд.
Это слово развернуло в памяти уголок, старый, забытый. Он закрыл глаза, — исчезло его губернаторство, исчезло возвышение, на котором стоял он, церковь, протопоп, умерший полицмейстер: явилась комната с синими стенами, с левой стороны освещенная деревенским утренним, особенным солнцем. Явилось ощущение только что пережитых, волнующих, как холодная вода, снов. Вспомнились блестящие, разрисованные черными квадратами полы гостиной; голос отца в кабинете, староста Егор; какие-то мужики, становившиеся на колени перед крыльцом. Нежная, прекрасная женщина сидит у рояля и, держа на левом колене маленького мальчишку в бархатных штанах, учит его, как называются клавиши, белые и черные. А у мальчишки мелькают в голове думы о том, что не мешало бы гривенник, подаренный ему сегодня отцом, завернуть в платок, потому что время летнее и денежку с зазубренными краями могут покусать мухи; что орел, кажется, напился пьяным, а индюк собирается на село ко всенощной пойти…
Эта женщина — мать.
Теперь над ней — большой, черного мрамора крест, и на пьедестале золотыми буквами на славянском языке написаны евангельские слова.
Губернатору почему-то делается стыдно от этих воспоминаний, он краснеет, открывает глаза и смотрит на гроб, стоящий посередине церкви. С возвышения, которое в кафедральных соборах устраивается специально для губернаторов, ему виден полицмейстер, лежащий с бумажным венчиком на лбу. На венчике, как медальоны, нарисованы иконки. Под шеей у полицмейстера — вата. Глаза запали, как будто кто вдавил их большим пальцем. Нос сделался тонким и острым. Руки пожелтели, видны кости, расходящиеся, как веер. Лицо полицмейстера было таково, будто он за эти два дня и две ночи много кое о чем подумал и теперь окончательно убедился, что 18 марта и в самом деле не нужно бы стрелять в толпу. Даже мороз по коже пробегал, когда губернатору на ум пришла мысль, что, вероятно, только в гробу человек понимает все, всю жизнь, огромную и сложную, и видны тогда ему все пути ее, правые и неправые, и не кажутся они ему спутанными, а ясными и простыми, и понятно, как нужно было бы ходить по ним.
После ектений послышалось вдруг осторожное задавание тона, и хор необычно тихо и стройно запел:
— …Житейское море, воздвигаемое зря, напастей бурею. К тихому пристанищу твоему притек, вопию ти…
Душа очищалась, будто с нее, как с зерна, снимали шелуху. Выступали на глазах слезы, хотелось уйти от этой толпы в тихие далекие улицы. Необыкновенно прекрасною и чистой, как святая на иконе, представилась Соня. Она не пошла в церковь: боится панихиды.
Прочитали громкую и торжественную молитву об отпущении полицмейстеру всех грехов, вольных и невольных, и в знак прощения вложили ему в правую руку свернутое трубкой рукописание, которое он должен показать, когда в сороковой день предстанет перед богом. Понесли гроб к выходу. Наклонились у дверей хоругви. Ударил на колокольне грустный перезвон. Зарыдала вся черная и стройная, с невидимым лицом, цыганка Аза. Когда спускались по широким, залитым асфальтом порожкам, то голова покойника, казалось, приподнялась. А сзади печально, как склеп, закрылись золотые двери алтаря, и незаметно прошуршала за ними шелковая завеса.


























