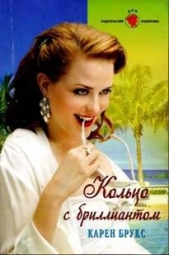Когда всё кончилось

Когда всё кончилось читать книгу онлайн
Давид Бергельсон (1884–1952) — один из основоположников и классиков советской идишской прозы. Роман Когда всё кончилось (1913 г.) — одно из лучших произведений писателя. Образ героини романа — еврейской девушки Миреле Гурвиц, мятущейся и одинокой, страдающей и мечтательной — по праву признан открытием и достижением еврейской и мировой литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Дядина дочка говорила мне, что к этим курсисткам часто приходит какой-то студент и остается на целую ночь.
Неподалеку от нее, посреди комнаты, стоял младший брат хозяина Шолом Зайденовский, смуглолицый молодой человек, с хмурым лицом, производивший впечатление засидевшегося на школьной скамье ешиботника, недавно подстригшего пейсы и облачившегося в короткий сюртук. Он стоял одиноко, поглядывая исподтишка и недоверчиво на гостей, и надменно молчал. Недавно, после смерти строго набожных родителей, он превратился в полусвободомыслящего человека, зараженного ядом просвещения, женился по расчету на перезрелой, сухопарой девице, о которой не хотел слышать в течение трех лет, поселился с нею неподалеку от города в местечке, служащем резиденцией цадика, и стал торговать досками. Деньги он презирал и в то же время был к ним привязан вошедшей в плоть и кровь привязанностью мелкого торгаша, считал себя в своей области чуть ли не гением и относился с глубоким пренебрежением к еврейской молодежи:
— Ведь у нас неоткуда взяться здоровым типам…
К Миреле с самого начала относился он враждебно и недоверчиво, словно никак не мог ей простить, что она избрала себе в мужья его глуповатого племянника. За целый вечер он ни разу не взглянул на нее, чувствуя, что красивое скорбное лицо ее с голубыми глазами вызывает в нем раздражение, и, подойдя, наконец, к студенту Любашицу, сидевшему неподалеку от Миреле, заговорил таким тоном, словно речь шла о происшествии, совершившемся на его глазах в центре города:
— Да… вот так ходят эти молодые люди по свету и по ребячески мечтают: я, наверное, буду царевичем… где-то ждет меня моя царевна.
Неожиданно приехал из города Мончик. Явился он поздно и был рассеян, словно с неба свалился. Только что ускользнуло у него из рук выгодное дельце; озабоченный и всецело поглощенный мыслями о том, как бы наверстать потерянное, он сразу уставился выпученными глазами в огонь лампы и сначала даже не замечал, что за спиной у него толпились, подталкивая друг дружку, молоденькие родственницы: одни наперебой дергали его за пиджак, другие совали за воротник апельсиновые корки. Когда он наконец обернулся, вдруг раздался дружный хохот, и только Мириам Любашиц старалась сохранить серьезный вид, выговаривая ему:
— Фу, Мончик, как не стыдно так упорно не отвечать на вопросы!
Мончик вдруг сообразил, что он голоден, и принялся сам себе дивиться:
— Погодите-ка, чаю вечером я, наверное, не пил, но обед… вот так штука: не могу припомнить, обедал я сегодня или нет…
Над ним снова принялись подтрунивать и принесли ему перекусить. Он стал есть стоя, снова впал в раздумье и принялся расхаживать взад и вперед по комнате со стаканом чая в руках.
За столом все еще продолжался разговор о курсистках. Кто-то подслушал, как цинично выражались жилицы дочери Азриела-Меира, беседуя между собой рано утром, после ухода студента, который провел у них ночь. Свекровь сделала брезгливую гримасу и ожесточенно принялась отплевываться; окружающих мужчин рассказ этот привел в возбуждение, и они стали наперебой сообщать друг другу разные пикантные истории. Кто-то отозвал в сторону Шмулика и принялся потихоньку ему рассказывать о миниатюрной, необычайно пылкой курсистке, которая оставила в Курске мужа и успела уже здесь вступить с кем-то в связь и забеременеть. Шмулика от этого рассказа в жар бросило; забыв о людях, толпящихся в большой столовой, он громко расспрашивал:
— Неужели здесь? В нашем городе?
Вдруг в темном коридоре между кабинетом и столовой раздался сочный грудной голос хозяина — плотного брюнета средних лет:
— Борух, вели сейчас запрягать; до отхода поезда всего час с четвертью.
Разговоры сразу стихли. Все взоры с почтением устремились на показавшуюся на пороге подвижную фигуру главы дома, а он положил Мончику руку на плечо и, улыбаясь, подмигнул ему:
— Ну что, брат, загребаешь деньгу, а?
Трудно было понять, серьезно говорит он или шутит. Глаза у него всегда блестели, словно покрытые лаком, и вся осанка выражала то, что давно было известно всем: «Почти полумиллионное состояньице… а? Слава идет по всей округе… да и родом-то не из Бог весть каких: небось, Зайденовский!»
Миреле наблюдала за ним через стол: она все еще сидела на прежнем месте, не снимая жакета. Этот человек, который любил пошутить в семейном кругу, который доныне регулярно каждый год на Судный день отправлялся к цадику в Садагуру и приглашал к себе на субботнюю вечернюю трапезу не менее десяти человек гостей, казался ей иногда просто замаскированным жуликом. По всему видно было, что, несмотря на все свое внешнее благообразие, он втихомолку, походя, изменяет жене и что за ним числятся всякие темные делишки; иначе нельзя было бы понять, отчего этот крутой, упрямый человек иногда ломает себя и становится как-то боязливо-мягок даже по отношению к младшим своим детям.
Заметив издали ее, первую свою невестку, он подошел к ней, глядя на нее с улыбкой, слегка ломаясь, и принялся шутить таким тоном, словно он один во всей семье отлично понимал, что она — не жена его сыну:
— А, и Миреле тут… Ну, как же там хозяйство, в порядке?
Окружающие глядели на них и молча посмеивались, и только бывшая курсистка Мириам Любашиц, спрятавшись за чьей-то спиной и, видимо, желая обратить на себя внимание дяди Якова-Иосифа, вполголоса отвечала шуткой на его вопросы, обращенные к упорно молчавшей Миреле.
Все улыбались шутливым выходкам хозяина:
— Миреле, ты себе только представь: кухарка тебя бросает, а другой нельзя отыскать. А то вдруг может еще начаться забастовка кухарок.
Не смеялся этим шуткам один лишь надменный и озлобленный брат свекра Шолом Зайденовский. Угрюмо настроенный, убежденный, что никто из присутствующих не в состоянии понять ни мудреных его размышлений, ни причины его презрения к людям, он держался отчужденно и за все время не произнес ни слова. Склонив голову слегка набок и засунув палец за пуговицу застегнутого наглухо сюртука, он поглядывал на Миреле своими сверлящими глазами недружелюбно и свысока. Он один из всей родни отлично понимал, что брат его вульгарный и неумный честолюбец, но знал, что, высказав такое мнение, не встретит ни в ком сочувствия — и оттого предпочитал молчать. Опустив голову и подперев рукой широкий лоснящийся подбородок, гордо шагал он по комнате, не отвечая бывшей курсистке Мириам, считавшей его скрягой и пристававшей к нему с надоедливым вопросом:
— Ну, Шолом, когда, наконец, ты пригласишь нас в гости?
Свекра уже не было в комнате; шум и веселье возобновились с прежней силой, а Миреле все сидела на прежнем месте в своем жакете. Вдруг она опять почувствовала на себе взгляд Шолома Зайденовского и неожиданно сама для себя порывисто поднялась с места. Не прощаясь ни с кем, направилась она к выходу и долго еще не могла успокоиться: «В конце концов я не выдержу и скажу прямо в лицо этому ешиботнику, что он набитый дурак».
А сердце у нее ныло, когда она раздевалась в своей комнате и ложилась в кровать: «Вот до чего дошла — расстраиваюсь из-за какого-то Шолома Зайденовского… Как будто в этом вся беда…
Беда ведь вот в чем: все время я чувствую, что нужно что-нибудь предпринять, и не знаю, что и как предпринять. Постоянно кажется мне, что завтрашний день принесет с собою желанное решение, а когда настанет этот день, я снова падаю духом, потому что нахожусь под одним кровом со Шмуликом, потому что я ему жена… В конце концов, нужно же найти какой-нибудь исход из этого положения.
Да вот что плохо: бывает ведь и так, что люди ищут целыми годами такого исхода и не находят его; тогда им остается одно — лишить себя жизни, оставив полуребяческую-полусерьезную записку…»
Было уже далеко за полночь, когда Миреле забылась беспокойным сном. В комнате было очень темно и тихо. В кухне, отделенной коридором от спальни, сладко спала и громко похрапывала заснувшая в одежде прислуга, а кошка, прыгая по полу, стучала куском сахара; этот стук мешал Миреле спать, и в полудремотном мозгу ее все бродила мысль, с которой она заснула: «А если люди не находят смысла жизни, то кончают самоубийством и оставляют полуребяческие-полусерьезные записки».