Детство. В людях. Мои университеты

Детство. В людях. Мои университеты читать книгу онлайн
Вступительная статья Даниила Гранина. Иллюстрации Б. Дехтерева.
Знаменитая автобиографическая трилогия Максима Горького — одно из сокровищ русской литературы. Три сюжетно связанные повести: «Детство», «В людях» и «Мои университеты » — рассказывают о трудностях начала самостоятельной жизни писателя, формировании его характера и мировоззрения. Многочисленные испытания, непрестанная борьба за существование, описанные в книге, показывают, как сложно жить простому народу на Руси, из чего и при каких условиях постепенно складывался нравственный образ русского человека. Настоящее издание приурочено к 150-летию со дня рождения писателя и открывает новую серию «Волжский роман».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В первые же дни по приезде мать подружилась с веселой постоялкой, женой военного, и почти каждый вечер уходила в переднюю половину дома, где бывали и люди от Бетленга — красивые барыни, офицера. Дедушке это не нравилось, не однажды, сидя в кухне, за ужином, он грозил ложкой и ворчал:
— Окаянные, опять собрались! Теперь до утра уснуть не дадут.
Скоро он попросил постояльцев очистить квартиру, а когда они уехали — привез откуда-то два воза разной мебели, расставил их в передних комнатах и запер большим висячим замком:
— Не надобно нам стояльцев, я сам гостей принимать буду!
И вот, по праздникам, стали являться гости: приходила сестра бабушки Матрена Ивановна, большеносая крикливая прачка, в шёлковом полосатом платье и золотистой головке, с нею — сыновья: Василий — чертежник, длинноволосый, добрый и веселый, весь одетый в серое; пестрый Виктор, с лошадиной головою, узким лицом, обрызганный веснушками, — еще в сенях, снимая галоши, он напевал пискляво, точно Петрушка:
— Андрей-папа, Андрей-папа…
Это очень удивляло и пугало меня.
Приезжал дядя Яков с гитарой, привозил с собою кривого и лысого часовых дел мастера, в длинном черном сюртуке, тихонького, похожего на монаха. Он всегда садился в угол, наклонял голову набок и улыбался, странно поддерживая ее пальцем, воткнутым в бритый раздвоенный подбородок. Был он темненький, его единый глаз смотрел на всех как-то особенно пристально; говорил этот человек мало и часто повторял одни и те же слова:
— Не утруждайтесь, всё равно-с…
Когда я увидел его впервые, мне вдруг вспомнилось, как однажды, давно, еще во время жизни на Новой улице, за воротами гулко и тревожно били барабаны, по улице, от острога на площадь, ехала, окруженная солдатами и народом, черная высокая телега, и на ней — на скамье — сидел небольшой человек в суконной круглой шапке, в цепях; на грудь ему повешена черная доска с крупной надписью белыми словами, — человек свесил голову, словно читая надпись, и качался весь, позванивая цепями. И когда мать сказала часовых дел мастеру: «Вот мой сын», — я испуганно попятился прочь от него, спрятав руки.
— Не утруждайтесь, — сказал он, страшно передвинув весь рот к правому уху, охватил меня за пояс, привлек к себе, быстро и легко повернул кругом и отпустил, одобряя:
— Ничего, мальчик крепкий…
Я забрался в угол, в кожаное кресло, такое большое, что в нем можно было лежать, — дедушка всегда хвастался, называя его креслом князя Грузинского, — забрался и смотрел, как скучно веселятся большие, как странно и подозрительно изменяется лицо часовых дел мастера. Оно у него было масленое, жидкое, таяло и плавало; если он улыбался, толстые губы его съезжали на правую щеку и маленький нос тоже ездил, как пельмень по тарелке. Странно двигались большие оттопыренные уши, то приподнимаясь вместе с бровью зрячего глаза, то сдвигаясь на скулы, — казалось, что если он захочет, то может прикрыть ими свой нос, как ладонями. Иногда он, вздохнув, высовывал темный круглый, как пест, язык и, ловко делая им правильный круг, гладил толстые масленые губы. Всё это было не смешно, а только удивляло, заставляя неотрывно следить за ним.
Пили чай с ромом, — он имел запах жженых луковых перьев, пили бабушкины наливки, желтую, как золото, темную, как деготь, и зеленую; ели ядреный варенец, сдобные медовые лепешки с маком, потели, отдувались и хвалили бабушку. Наевшись, красные и вспухшие, чинно рассаживались по стульям, лениво уговаривали дядю Якова поиграть.
Он сгибался над гитарой и тренькал, неприятно, назойливо подпевая:
Мне думалось, что это очень грустная песня, а бабушка говорила:
— Ты бы, Яша, другое что играл, верную бы песню, а? Помнишь, Мотря, какие, бывало, песни-то пели?
Оправляя шумящее платье, прачка внушительно говорила:
— Нынче, матушка, другая мода…
Дядя смотрел на бабушку прищурясь, как будто она сидела очень далеко, и продолжал настойчиво сеять невеселые звуки, навязчивые слова.
Дед таинственно беседовал с мастером, показывая ему что-то на пальцах, а тот, приподняв бровь, глядел в сторону матери, кивал головою, и жидкое его лицо неуловимо переливалось.
Мать сидела всегда между Сергеевыми, тихонько и серьезно разговаривая с Васильем; он вздыхал, говоря:
— Да-а, над этим надо думать…
А Виктор сыто улыбался, шаркал ногами и вдруг пискляво пел:
— Андрей-папа, Андрей-папа…
Все, удивленно примолкнув, смотрели на него, а прачка важно объясняла:
— Это он из киятра взял, это там поют…
Было два или три таких вечера, памятных своей давящей скукой, потом часовых дел мастер явился днем, в воскресенье, тотчас после поздней обедни. Я сидел в комнате матери, помогая ей разнизывать изорванную вышивку бисером, неожиданно и быстро приоткрылась дверь, бабушка сунула в комнату испуганное лицо и тотчас исчезла, громко шепнув:
— Варя — пришел!
Мать не пошевелилась, не дрогнула, а дверь снова открылась, на пороге встал дед и сказал торжественно:
— Одевайся, Варвар, иди!
Не вставая, не глядя на него, мать спросила:
— Куда?
— Иди, с богом! Не спорь. Человек он спокойный, в своем деле — мастер и Лексею — хороший отец…
Дед говорил необычно важно и всё гладил ладонями бока свои, а локти у него вздрагивали, загибаясь за спину, точно руки его хотели вытянуться вперед, и он боролся против них.
Мать спокойно перебила:
— Я вам говорю, что этому не бывать…
Дед шагнул к ней, вытянул руки, точно ослепший, нагибаясь, ощетинившись, и захрипел:
— Иди! А то — поведу! За косы…
— Поведете? — спросила мать, вставая; лицо у нее побелело, глаза жутко сузились, она быстро стала срывать с себя кофту, юбку и, оставшись в одной рубахе, подошла к деду: — Ведите!
Он оскалил зубы, грозя ей кулаком:
— Варвара, одевайся!
Мать отстранила его рукою, взялась за скобу двери:
— Ну, идемте!
— Прокляну, — шёпотом сказал дед.
— Не боюсь. Ну?
Она отворила дверь, но дед схватил ее за подол рубахи, припал на колени и зашептал:
— Варвара, дьявол, погибнешь! Не срами…
И тихонько, жалобно заныл:
— Ма-ать, ма-ать…
Бабушка уже загородила дорогу матери, махая на нее руками, словно на курицу, она загоняла ее в дверь и ворчала сквозь зубы:
— Варька, дура, — что ты? Пошла, бесстыдница!
Втолкнув ее в комнату, заперла дверь на крюк и наклонилась к деду, одной рукой поднимая его, другой грозя:
— У-у, старый бес, бестолковый!
Посадила его на диван, он шлепнулся, как тряпичная кукла, открыл рот и замотал головой; бабушка крикнула матери:
— Оденься, ты!
Поднимая с пола платье, мать сказала:
— Я не пойду к нему, — слышите?
Бабушка столкнула меня с дивана:
— Принеси ковш воды, скорей!
Говорила она тихо, почти шёпотом, спокойно и властно. Я выбежал в сени, — в передней половине дома мерно топали тяжелые шаги, а в комнате матери прогудел ее голос:
— Завтра уеду!
Я вошел в кухню, сел у окна, как во сне.
Стонал и всхлипывал дед, ворчала бабушка, потом хлопнула дверь, стало тихо и жутко. Вспомнив, зачем меня послали, я зачерпнул медным ковшом воды, вышел в сени — из передней половины явился часовых дел мастер, нагнув голову, гладя рукою меховую шапку и крякая. Бабушка, прижав руки к животу, кланялась в спину ему и говорила тихонько:
— Сами знаете — насильно мил не будешь…
Он запнулся за порог крыльца и выскочил на двор, а бабушка перекрестилась и задрожала вся, не то молча заплакав, не то — смеясь.
— Что ты? — спросил я, подбежав.
Она вырвала у меня ковш, облив мне ноги и крикнув:
— Это куда же ты за водой-то ходил? Запри дверь!
И ушла в комнату матери, а я — снова в кухню, слушать, как они, рядом, охают, стонут и ворчат, точно передвигая с места на место непосильные тяжести.
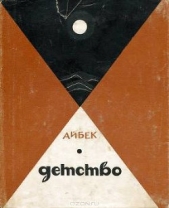

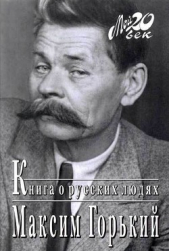


![Биограф[ия]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)




















