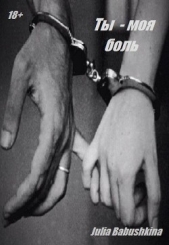Чего не было и что было

Чего не было и что было читать книгу онлайн
Проза З.Н.Гиппиус эмигрантского периода впервые собрана в настоящем издании максимально полно.
Сохранены особенности лексики писательницы, некоторые старые формы написания слов, имен и географических названий при современной орфографии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Таков подход (иногда автор как бы намеренно вводит себя в это русло, в единообразие метода). Но почти каждый очерк, — внутри, — расширяется: сквозь и через «общественную деятельность» мы начинаем видеть «душевную ткань» человека, как ядро. Или же автор ищет какую-то одну, главную, всеопределяющую черту личности — и находит ее.
Повторяю, книга, подобно всем органическим книгам, — не ровна: очерки разномерны и разноценны. Но в каждом, — так или иначе, — отразилась и личность, и общественность. Их «полярность» и вопрос о каком-то необходимом синтезе между ними, — уже понимал Спасович; но этот бездонно-глубокий и важный вопрос был ему не по силам, а, главное, — был не по времени… К Спасовичу я, впрочем, вернусь, пока же — несколько слов о Пассовере.
Этот «сфинкс», по выражению Андреевского, нарисован в книге М. Винавера резкими и тонкими чертами.
Мне пришлось видеть его лишь мельком. Но он сразу производил впечатление именно резкости и тонкости. И еще была в нем, пожалуй, какая-то внутренняя, скрытая тяжесть, куда-то его неодолимо уводящая. Кажется, Урусов сказал о нем однажды: «Пассовер? Да он всегда уходит…».
Очерк о Пассовере отягчен, по-моему, излишними профессиональными подробностями, характерными для него как адвоката, но к самой фигуре прибавляющими не много. Этот «всегда уходящий» человек, в невидимом кругу заключенный, англоман, еврей — и русский, служивший родине воистину «всем разумением своим», — не оставил после себя ни одной строки, ничего, кроме памяти о нем тех, кто его знал. М. Винавер воскрешает живой образ, действительно «возвращает его из тьмы» — для новых людей (по удачному выражению одного молодого критика). И дает почувствовать, — это главное! — что среди общественных деятелей того времени образ Пассовера — не случаен, что он там нужен, что он что-то дополняет, поясняет, подчеркивает.
Так же, как и его, во многих отношениях, противоположность — Спасович. Грузный, живой, общительный, остроумней и авторитетный — он показан М. Винавером во всем его блеске. Спасовича мне доводилось встречать лишь среди литературы. У него, на Кабинетской, в созданном им «шекспиров-СК0 м кружке», собирались все видные писатели того времени,
Да почти и все адвокаты. Там читал свой доклад Урусов о Ницше восходящей звезде, — и его «смеющихся львах». Ранее — Боборыкин об Оскаре Уайльде… Спасович был очень тонкий литературный критик. Говорил на этих вечерах постоянно, и речь его, с заметным польским акцентом и с неожиданными оборотами, придававшими ей силу, неизменно была увлекательна. «Когда соловей своей соловьице строит куры…» — говорил он, и нам казалось, что именно так, а не иначе, нужно в этот момент сказать, чтобы быть убедительным.
М. М. Винавер подметил очень важную его черту: свойство охватить предмет сразу, в полноте и цельности, и сразу давать его окончательный отпечаток. Вообще — Спасович нарисован превосходно, и очерк этот один из самых удачных во всех отношениях. Спасович был разносторонен, резко индивидуален и глубок, — но глубиной своего времени. А, собственно, время его трудно определяемо: он попал на один из внутренних переломов. В юности — еще влияние западной романтической школы, гегелианство, — и очень быстрое освобождение от этого влияния, когда-то чрезвычайно сильного в России, но ко второй половине прошлого века уже ослабевшего. Следы его, однако, оставались — остались они и в Спасовиче. Он носил в себе, в своей метафизике, то, что называлось «болезнью века». Перед ним, как перед многими современниками его, с новой ясностью вставали вопросы, старые решения которых уже не удовлетворяли, а для новых — не исполнились времена. Да и слишком действенный человек был Спасович, чтобы задерживаться на теориях. Он жил — и воплощал то, что могло быть воплощено в данный момент.
Я потому так долго останавливаюсь на Спасовиче, что в книге М. Винавера он взят с исключительной разносторонностью. Душевная личность изображена, в ее психике и метафизике, с почти совершенной полнотою; и при этом не в оторванности от своих времен, а в связи с ними.
Кстати, тут сказалась в авторе очень ценная черта — способность быть объективным.
Я говорю, конечно, о той мере объективности и самоотвлечения, которая необходима для подобных очерков. Не важно ли, воскрешая образ человека, уметь «заражаться» им, входить в него, уметь взглянуть из него? А как сделать это без какой-то меры объективности? Это не мешает автору «Недавнего» всегда присутствовать в книге. И, конечно, из тех «спутников», о которых он нам рассказывает, он любит одного больше, другого меньше; но нигде стремление к объективности не покидает его, и чем вернее ее мера, тем удачнее очерк.
Например — Андреевский. Автор не то, что меньше «любит» его, но Андреевский не так ему близок, чужд кое в чем, самом для него заветном. Это естественно: Андреевский, со своим уклоном в литературу и в чистый эстетизм, был несколько чужд и своему времени; главный пафос его — не был пафосом тогдашней передовой русской интеллигенции. М. Винавер так и подходит к нему. Но именно способность найти меру объективности позволяет ему нарисовать этот образ особенно любовно, подчеркнуть все его обаяние. И мера не перейдена: в конце — автор оставляет за собой право сказать несколько слов о слабостях человека, о его маниакальном отношении к смерти, иногда «смахивающем на садизм»… Это — уж точка зрения автора и доказательство, что он, при объективности, все-таки нигде не «отсутствует».
Мне жаль, что я не могу остановиться на всех очерках, достойных отдельного внимания, а также рассмотреть некоторые из них с чисто художественной стороны. Впрочем, с этой стороны подходить к «Недавнему», — книге не только литературной, но литературно-исторической, — было бы ошибочно. Меня интересует, главным образом, как ответила она своему Двойному заданию: показать нам живые лица и передать дух времени.
Любовь к индивидуальности, к лицу, помогла автору решить первую часть задачи: воскрешенные им, «возвращенные из тьмы» люди — живут. Что касается второй части, — второй Любви автора, ко «времени», — на ней я хочу остановиться: Мне кажется, что значение книги тут шире, чем, быть может, Думает сам автор.
Он говорит: вот люди «последнего полустолетия»; вглядевшись в их лица, можно понять дух времени, которым они связаны.
Я этого не отрицаю. Я лишь прибавляю, что есть между ними еще иная связь и что в книге, кроме духа времени (или времен), отразился также дух эпохи.
Эпоха — нечто, не ограниченное никакими определенными годами. Можно сказать, что эпоха включает в себя много «времен». Их не мало и в книге Винавера; разве одно и то же «время», с одним и тем же «духом», годы семидесятые… да что семидесятые! даже девяностые, — и годы первой революции, первой Думы? Сами очерки, в зависимости от того, когда, о ком они писались, — разнятся между собою, до манеры письма. «Рассказы» о Муромцеве, Колюбакине, Кокошкине овеяны особой, прозрачной и молодой нежностью. Совсем другая атмосфера, чем, например, в «Судье тишайшем» (Проскуряков, 1904), хотя и тут рисунок очень нежен.
Переливы, смены времен, иногда почти неуловимы. Внешние события, — крупные или мелкие, — могут менять времена. Но эпоха — завершается только внутренно.
Из тех людей, о которых нам рассказывает М. Винавер, многие связаны временем; но все — связаны духом одной и той же эпохи. Мало того: и с нами, до самого младшего сегодняшнего поколения, они связаны этим духом: мы все — люди одной эпохи. Начавшись где-то около декабристов (заря «борьбы за право и свободу») — наша эпоха еще не завершена.
«Недавнее» — лишь кусок жизни. То, что видели глаза одного человека. Дает ли какой-нибудь единоличный труд, единоличное произведение — больше?
И если в книге действительно живут отошедшие, живет дух времени и дух эпохи, — как в книге М. М. Винавера, — автор может с правом сказать себе, что он «исполнил свой долг»: не только долг человека своего времени — но и человека нашей эпохи.