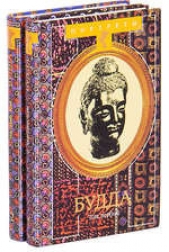Аэрокондиционированный кошмар
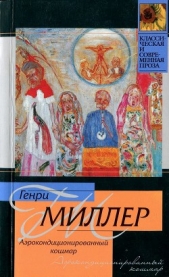
Аэрокондиционированный кошмар читать книгу онлайн
Непривычный, необычный Генри Миллер. Яростный обличитель буржуазного ханжества и лицемерия, массовой культуры и всеобщей погони за материальным благосостоянием. Потрясающая воображение книга, в которой великий бунтарь выносит приговор Америке, используя для этого все возможности своего колоссального таланта. Книга, в которой переплетаются реализм и сюрреализм, художественный вымысел и публицистика. Книга, позволяющая читателю заглянуть в бездну отупляющей бездуховности, пронизывающей современную западную цивилизацию.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Последнее известие, полученное мной от Дадли, касалось велосипедного путешествия, которое он собирался совершить, чтобы окончательно не спятить от «Письма Лафайету». Фло с ним не ехала, она готовилась к открытию лечебницы для невротиков. Я уже говорил вначале, что, если б не Дадли, я ни за что не купил бы автомобиль. Передвигаясь с места на место, я буквально привязался к «форду» Дадли модели 1926 года. Особенно после рекордного рейса, когда он вез нас встречать великого Сальвадора Дали со всеми его пожитками; мы их доставили в полном порядке, за исключением клетки для птиц и музыкальной чернильницы. По вечерам, когда нам ничего не оставалось делать, кроме как прогуливаться взад и вперед по шоссе, я разговаривал с Дадли обо всем. То есть мы обсуждали и вселенские проблемы, и механизмы действия зубчатых передач. Тогда-то мне и стало ясно, что Дадли — художник с головы до ног. Тем более в сравнении с великим Сальвадором Дали. Дали работал как одержимый. Когда он заканчивал работу, он был измочален так, что из него уже нельзя было выжать ни капельки. Дадли казался совсем неспособным работать — в то время. Он созревал, наливался соком. Когда он начинал разговаривать, его пот прошибал. Некоторые наши знакомые считали его просто неврастеником. А Дали его и не замечал почти. Дали вообще ничего не замечал. Он сам сказал как-то, что ему все равно, где он находится в данный момент; он с таким же успехом мог работать и на Северном полюсе. А Дадли впечатлителен. Все вокруг его удивляет и вызывает любопытство. Иногда, чтобы совсем не закиснуть, мы отправлялись в Фредериксберг отведать тамошней итальянской кухни. Ничего особенного. Мы просто ели и болтали. Болтали обо всем. У нас было приподнятое настроение. Мы ничего не решали. Назавтра к полудню температура, как обычно, повышалась до 110 градусов в тени [30]. Мы, бывало, сидели и прохлаждались кока-колой в одних подштанниках, пока Дали наверху работал. Поглядывали на травку, на стрекоз, на великаны-деревья, на работающих негров да слушали жужжанье всяких летучих тварей. На завтрак, ленч и обед у нас был Каунт Бейси. К вечеру мы переходили на джин с тоником и виски с содовой. Опять разговор. Опять вялость и безделье. И снова о Вселенной. Мы разбирали ее до винтика, копошились, как в швейцарских часах. А Дали между тем уже покрывал краской по меньшей мере три квадратных дюйма холста. Сидел как приклеенный на своей скамеечке. А когда присоединялся к нам за столом, считал своим долгом забавлять нас. Дадли с трудом заставлял себя улыбаться ужимкам и кривлянью Дали. Такого рода психом ему быть не хотелось. Куда лучше мы проводили время в гостях у Шепа и Софи в их хижине. У них было восемь или девять детишек, и они всегда хотели есть и пить. Иногда мы приносили с собой патефон, и дети пели и танцевали вволю. Там мы имели дело не с параноидальными образами, а просто с Шепом и его семьей. На обратном пути Дадли говорил без умолку. И всегда гарниром к его разговору подавались «безудержно расточительные образы». Слушая его, мы просто пьянели. А когда он уставал, он спускался вниз, в подвал, где была его мастерская, и там снова принимался за своего пианиста, изображая его в десятках разных ракурсов. Так рудокоп спускается в рудник. Дадли копал все глубже и глубже в поисках драгоценного металла. И все ценное, что находил, прятал, вероятно, в карманах своего широченного пиджака, сшитого лет десять назад. Все ценное он держал в карманах своего пиджака. А когда ему решительно нечем было заняться, он принимался очинять свои карандаши, их у него было великое множество. Или выходил к машине, поднимал капот, чтобы просто убедиться, что все жизненно важные части в порядке. А то, взяв кирку и лопатку, шел на шоссе и ремонтировал какой-нибудь кусочек пути. Дали должен был принимать его за придурка. Но придурком он не был. Он созревал, он пребывал в предродовом состоянии. Когда нам становилось совсем скучно, мы садились друг напротив друга и разыгрывали сценки, изображая, как Лейф приходит в какой-нибудь городишко и спрашивает почтовые марки. Дадли досконально знал душу Лейфа, все ее трещины и щели. Он мог даже уменьшиться в росте на шесть-семь дюймов и окончательно перевоплотиться в Лейфа, просящего дать ему самое точное, самое последнее расписание поездов.
Ну, а когда и это надоедало, Дадли мог изобразить отсутствие боковых зубов и чавкал, как Дали, поедающий картофельное пюре по-испански. Или он мог вытянуться на земле во весь свой рост и закидать себя листьями — так он поступил когда-то в Санкт-Петербурге, Флорида, когда решил покончить с собой. Он мог делать все, только что не летал, но не потому, что Бог не дал ему крыльев, — у него просто не было желания летать. Он хотел зарываться в землю, все глубже и глубже. Он хотел превратиться в крота, прорыть однажды туннель сквозь всякие магнезированные и хлоридные известняки. Все это, конечно, чтобы добраться до своего отца, бывшего когда-то звездой футбола. И воттак, потихоньку-полегоньку пришло время начинать… И он начал: «Дорогой Лафайет…» Я понимал, что это письмо окажется лучшим из всех писем, которые один человек писал когда-нибудь другому, превзойдет даже письмо Нижинского Дягилеву. Как он сам говорил, он будет продолжать письмо вечно, потому что такие письма не напишешь ни за неделю, ни за месяц, ни за год; оно бесконечно, безмерно мучительно и безгранично поучительно. Лафайет может и не дожить до последних строк. Никто не доживет. Письмо будет продолжаться, оно будет писаться само, безостановочно, как автоматический пистолет. Оно уничтожит все, что попадется ему на глаза. Сделает чистыми, как стеклышко, мрачные, наполненные призраками пространства, и тем, кто придет вслед за нами, будет где разгуляться, будет вволю корму, полно ясного неба и свободной фантазии. Раз и навсегда избавит оно всех от фирмы «Убийства, Смерть, Болезни и компания». Освободит всех рабов.
Удачи тебе, Дадли, и тебе, крошка Лейф! Давайте-ка сядем теперь вместе и напишем новое «Письмо Лафайету». Аминь!
С Эдгаром Варезом в пустыне Гоби
«Мир пробуждается. Человечество на марше. Ничто не может его остановить. Осознавшее себя, не подавляемое никем, не вызывающее жалости. Марш, марш! Пошли! Они идут! Миллионы ног с бесконечным громким топотом, наступая, продвигаясь вперед, прибавляя шаг. Ритмы меняются. Быстро, медленно, стаккато, волоча ноги, наступал, с трудом продвигаясь вперед, прибавляя шаг. Иди! Финальное crescendo создает впечатление, что уверенное, безжалостное движение никогда не кончится… Оно спроецировано в пространстве…
Голоса в небе, будто их заставляет невидимая магическая рука, нажимающая кнопки волшебного радио, заполняют все пространство, переплетаются, звучат в унисон, проникают друг в друга, раскалываются, разбегаются, отталкиваются один от другого, накладываются друг на друга, сшибаются и заглушают друг друга. Отдельные фразы, лозунги, обрывки речей, прокламации: Китай, Россия, Испания, фашистские государства и противостоящие им демократии все взрывают свои парализующие средства…»
Чье это воззвание? Анархиста, одержимого амоком? Туземца с Сандвичевых островов, вышедшего на тропу войны?
Нет, друзья мои, эти слова принадлежат композитору Эдгару Варезу. Он излагает замысел своего будущего опуса. У него и еще есть что сказать…
«Вот чего следует избежать: пропагандных интонаций, равно как и всяческих журналистских спекуляций по поводу современных событий и доктрин. Надо дать эпический сгусток нашей эпохи, очистив ее от манерничанья и снобизма. Для этого я предлагаю разбросать кое-где обрывки фраз, стилизованных в духе Американской, Французской, Русской, Китайской, Испанской, Германской революций: взрывы метеоритов и слова, повторяющиеся, как мерные грохочущие удары тяжелого молота. Мне хотелось бы найти торжественную, даже пророческую интонацию — заклинание, и тем не менее обнаженное произведение, готовое к бою, так сказать. И также какие-то фразы из фольклора, для придания человеческого, земного характера. Хочу, чтобы это «человеческое» включало в себя все, от самого примитивного до самых последних научных открытий».