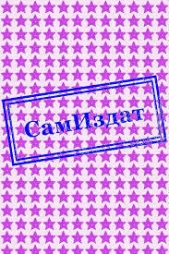"Люди, годы, жизнь" Книга II

"Люди, годы, жизнь" Книга II читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
12
Есть воспоминания, которые радуют, приподымают, видишь порывы, доброту, доблесть. Есть и другие… Напрасно говорят, что время все исцеляет; конечно, раны зарубцовываются, но вдруг эти старые раны начинают ныть, и умирают они только с человеком.
Мне предстоит рассказать о нехорошем. За два века до нашей эры Плавт веселил римлян своими комедиями; от них в памяти остались четыре слова: «Homo homini lupus est». И мы часто говорим о морали того общества, которое построено на корысти, на борьбе за кусок пирога: «Человек человеку - волк». Плавт напрасно приплел к делу волков. П. А. Мантейфель, изучавший жизнь этих животных, мне говорил, что волки редко дерутся друг с другом, да и на людей нападают только доведенные голодом до безумия. А я в моей жизни не раз видел, как человек травил, мучил, убивал других безо всякой к тому нужды. Если бы звери могли размышлять и сочинять афоризмы, то, наверно, какой-нибудь седой волк, у которого его сосед вырвал клок шерсти, пролаял бы: «Волк волку - человек».
Что мне сказать о киевском погроме? Теперь никого ничем не удивишь. В черных домах всю ночь напролет кричали женщины, старики, дети; казалось, это кричат дома, улицы, город.
Перец Маркиш написал в те годы поэму о погроме в Городище; там убили пятьсот человек. В Бабьем Яру убили свыше семидесяти тысяч евреев, в Европе - шесть миллионов… Я себя ловлю на этом сопоставлении. Недавно я слышал машину, которая сама сочиняет музыку. Так вот мне кажется, что вместо сердца отстукивает цифры мыслящая машина. Да, в 1919 году палачи еще не додумались до газовых камер; зверства были кустарными: вырезать на лбу пятиконечную звезду, изнасиловать девочку, выбросить в окно грудного младенца.
Во дворе лежал навзничь старик и пустыми глазами глядел на пустое осеннее небо. Может быть, это был молочник Тевье или его зять, старожил обреченного Егупца? Рядом была лужица: не молока - крови. А ветер беспокойно теребил бороду старика.
Как во всякой трагедии, были и фарсовые сцены. В квартиру моего тестя, доктора М. И. Козинцева, вбежал рослый парень в офицерской форме и крикнул: «Христа распяли, Россию продали!..» Потом он увидел на столе портсигар и спокойно, деловито спросил: «Серебряный?..»
Я решил пробраться в Коктебель, к Волошину; его дом казался мне убежищем. Мы ехали неделю до Харькова. На станциях в вагоны врывались офицеры или казаки: «Жиды, коммунисты, комиссары, выходи!..» На одной станции из нашей теплушки выбросили художника И. Рабиновича.
Харьков, потом Ростов, потом Мариуполь, Керчь, Феодосия… Мы ехали добрый (нет, недобрый) месяц, зарывались в темные углы теплушек, валялись в трюме пароходов, среди больных сыпняком, которые бредили и умирали, лежали, густо обсыпанные вшами. Снова и снова раздавался монотонный крик: «А кто здесь пархатый?..» Вши и кровь, кровь и вши…
На замызганных заборах красовались портреты Деникина, Колчака, Кутепова, Май-Маевского, Шкуро. На улицах подвыпившие кубанцы проверяли документы. Кто-то вопил: «Держи комиссара!..» В харьковской гостинице «Палас» помешалась контрразведка: прохожие обходили этот дом. В кафе за одним столиком сидели французские офицеры, за другим - спекулянты; они пили кофе по-варшавски. Повсюду пестрели плакаты «освага»: «Вперед, на Москву!» - конь Георгия Победоносца попирал копытами носатого еврея.
Метались из города в город московские адвокаты, питерские литераторы, аристократки, повязанные пятью платками, с шляпными коробками, куда они клали еду, актеры, гувернантки, беспризорные. Какой-то шутник декламировал в разбитой, загаженной гостинице:
Бежать? Но куда же? На время - не стоит труда,
А вечно бежать невозможно…
Сумасшедшая старуха в солдатской шинели, в шляпе с фиолетовыми перьями шептала: «Нет, Клемансо нас не оставит на произвол судьбы…» Из ночного кабака гурьбой выхолили пьяные офицеры, они пели:
Генерал у нас Шкуро,
Чхать нам на Европу,
Мы поставим ей перо…
Дальше шло непечатное.
(В 1925 году я увидел на парижских стенах афишу: цирк «Буффало» показывает публике новый аттракцион - джигитовку казаков под руководством «знаменитого генерала Шкуро». Бывший погромщик продолжил свою карьеру на цирковой арене.)
Обыватели, выходя утром на базар, прислушивались, не стреляют ли. Все были стреляными, и никто ничему не верил. В людях смелых, понимавших, за что они борются, гражданская война рождала ненависть, стойкость, доблесть. А в надышанных, насиженных домишках копошились перепуганные людишки; эти не хотели спасать ни революцию, ни старую Россию, они хотели спасти себя. Из страха они доносили то чекистам, то контрразведчикам, что у соседки племянник в продотряде или что сосед выдал свою дочку за белого офицера. Они боялись шагов на лестнице, скрипа дверей, шепота в подворотне. Самые хитроумные прятали под половицей «пятаковки» и портреты Маркса, готовясь через неделю или через месяц положить под ту же половицу портрет Май-Маевского, царские деньги, даже Николу Чудотворца.
На вокзалах приходилось прыгать через тела: лежали тифозные, беженцы, мешочники.
Вот этот кудрявый паренек еще вчера пел:
Смело мы в бой пойдем
За власть Советов…
Теперь он горланит:
Смело мы В бой пойдем
За Русь святую
И всех жидов побьем
Напропалую.
Ни к какой бой он не собирался и не собирается; он торгует валенками, украденными на складе.
Казаки были лютыми; здесь сказались и традиции, и злоба за развороченную, разрубленную жизнь, и смятение.
В белой армии были черносотенцы, бывшие охранники, жандармы, вешатели. Они занимали крупные посты в администрации, в контрразведке, в «осваге». Они уверяли (а может быть, сами верили), что русский народ обманут коммунистами, евреями, латышами; его следует хорошенько выпороть, а потом посадить на цепь.
Много лет спустя я купил в Париже сборник стихов некоего Посажного, который называл себя «черным гусаром». Он работал на заводе Рено, проклинал «лягушатников-французов» и сокрушался о прошлом великолепии, вспоминая своего боевого коня:
Пегас в столовую вступил
И кахетинского попил.
Букет покушал белых роз.