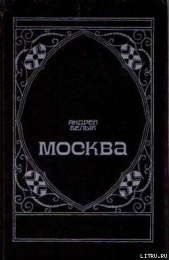ЗАПИСКИ ДАРШИАКА МОСКВА

ЗАПИСКИ ДАРШИАКА МОСКВА читать книгу онлайн
Трагический эпилог жизни Пушкина – такова главная тема исторического романа, названного автором «Записки д'Аршиака». Рассказ здесь ведется от имени молодого французского дипломата, принимавшего участие в знаменитом поединке 27 января 1837 года в качестве одного из секундантов.Виконт д'Аршиак, атташе при французском посольстве в Петербурге, как друг и родственник Жоржа д'Антеса, убийцы Пушкина, был посвящен во все тайны дуэльной истории, а как дипломатический представитель Франции он тщательно изучал петербургские правительственные круги, высшее общество и двор Николая I. Это дает возможность автору развернуть обстоятельства последней дуэли Пушкина на фоне императорского Петербурга тридцатых годов, изображая события и нравы эпохи с точки зрения европейского политического деятеля, заинтересованного крупными государственными людьми и характерными общественными явлениями тогдашней самодержавной России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он глубоко чувствовал эпоху Возрождения. Легенда о Дон Жуане волновала его. Когда мы беседовали однажды по поводу газетной заметки о предстоящем в 1837 году пятидесятилетнем юбилее знаменитой оперы Моцарта, он разговорился о бессмертной музыке этого создания и воздал высокую похвалу замечательному либретто аббата да Понта. Попутно он развернул перед нами картины старой Испании с поединками на шпагах в густой тени Эскуриала, с гордыми гробницами мадридских кладбищ, звонкими четками монахов и широкими епанчами кавалеров. И среди всей этой пестрой жизни с титанами, отшельниками, покаянными молитвами и гитарным звоном перед нами возникла несравнимой угро-
124
зой и встала неожиданным ужасом мраморная статуя Командора.
Так всегда у него трагизм истории незаметно выступал из пластического уклада минувшего.
Когда разговор зашел однажды о предке нашего короля, регенте Филиппе Орлеанском, Пушкин нарисовал нам выпуклую картину парижской жизни в эпоху малолетства Людовика XV. Оргии Пале-Рояля и безумное увлечение расчетами Джона Лоу, проказы герцога Ришелье и беседы ученых в женских гостиных, первые представления Комедии и ужины регента, оживленные разговорами Монтескье и Фонтенеля, пронеслись перед нами в нескольких быстрых фразах. И на фоне этого праздничного безумства и легкомысленной роскоши выступила ироническая фигура юного Вольтера, уже оттачивающего лезвие своих эпиграмм против беспечного общества, не предвидящего своей будущей гибели под ножом гильотины.
Иногда он вспоминал замечательных лиц, с которыми встречался на своем жизненном пути. Где-то на юге он познакомился с одной гречанкой. Она носила имя гомеровской соблазнительницы – нимфы Калипсо – и насчитывала среди своих возлюбленных лорда Байрона. Пушкин любил слушать ее рассказы, всматриваться в ее огромные огненные глаза, подведенные сурьмой, слушать напевы восточной эротики в ее нервном и протяжном исполнении. И когда он прикасался к накрашенным губам этой романтической героини, ему казалось, что к лицу его приближается прекрасная голова самого английского поэта, воспевшего гречанок с константинопольских базаров и афинских девушек в розовых садах Эгейского мыса.
Где-то на южном побережьи он подружился в молодости с египетским корсаром в тюрбане и феске, с кривым кинжалом и старинными пистолетами за широким красным поясом восточного бурнуса. Этот бронзовый мавр мирно посещал греческие кофейни портового городка, спокойно и бесстрастно всматриваясь в собеседников своими непроницаемыми глазами хищного зверя, величаво улыбался на нескромные расспросы, пренебрегая сопровождавшей его глухой репутацией бесстрашного грабителя черноморских парусников и бригантин.
И я думал иногда: какая странная судьба! Этот гениальный поэт, словно призванный общаться с лучшими умами своей эпохи, был обречен проводить жизнь в замк-
нутых пределах своей унылой родины. С безнадежностью узника он был бессилен нарушить запрет царя о переходе границы. А между тем, если бы ему предоставили возможность постранствовать в молодости по Европе, побеседовать с Гете и Шатобрианом, услышать Гумбольдта, Канинга и Талейрана, нужно ли было бы ему вспоминать о своих встречах с черноморским пиратом или полунищей гречанкой, целовавшей некогда лорда Байрона?
IV
Но лучше всего Пушкин говорил о своем искусстве. Ремесло поэта восхищало и увлекало его. Он считал, что свобода, положенная в основу поэтического творчества, не исключала, а, напротив, предписывала постоянный труд, без которого нет истинно великого.
Он говорил как-то о вдохновении как о расположении души к живейшему приятию впечатлений и соображению понятий. Это не праздная и беспорядочная восторженность, а уверенная в себе сила. «Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии, – говорил он нам, – спокойствие – необходимое условие прекрасного… Единый план Дантова «Ада» есть уже плод высокого гения»…
Когда-то, говорят, он скрывал в обществе свою литературную профессию, разделяя старинный предрассудок знати о том, что только полководцы и государственные деятели достойны почета, а никак не сочинители. Я вспомнил случай с моим знаменитым пращуром Сен-Симоном, который согласился написать слово о Людовике XIII лишь под непременным условием, что в свете ему не навяжут смешного звания автора.
Но ко времени наших встреч всеобщее признание и, может быть, пример некоторых европейских писателей изменили это странное заблуждение. Пушкин с достоинством нес свое народное звание первого русского поэта, дорожа и гордясь им. По крайней мере, однажды он с необыкновенной живостью рассказал нам об одной встрече, неожиданно доставившей ему высокую радость.
Оказывается, несколько лет перед тем он участвовал в качестве добровольца-наблюдателя в кавказской войне с турками. Он присутствовал при знаменитой битве, в которой Паскевичу удалось отрезать Арзерумского сера-
126
скира от Осман-паши и разбить в течение суток два неприятельских корпуса. Пушкин вступил с русской армией в столицу Азиатской Турции. Один из пашей, увидев его среди военных во фраке, осведомился о нем у спутников. Кто-то назвал его поэтом.
– Паша сложил руки на груди, – рассказывал Пушкин, – и поклонился мне, сказав через переводчика: «Благословен час, когда мы встречаем поэта. Поэт – брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных, и, между тем как мы, бедные, заботимся о славе и сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли, и ему поклоняются».
Поэт, видимо, был глубоко тронут этим мудрым восточным приветствием и вспоминал о нем с волнением…
Многие из нас проявляли интерес к русскому народному эпосу, к песням, поверьям и легендам. В ответ на наши расспросы Пушкин переводил нам целые отрывки из сложившихся на его родине народных поэм, охваченных невыразимой тоскою, или же с увлечением сообщал нам забавные и пестрые сюжеты русских сказок, неизменно поражавших нас вольным размахом фантазий и самоцветною игрою волшебных образов. Мы были зачарованы прелестными композициями этих поверий о царевне-лебеди и чародее-коршуне, о звездочетах и золотых петушках, о заколдованных теремах и витязях с пылающей чешуею, о легкокрылых кораблях царя Салтана и шелковых шатрах Шамаханской царицы.
– Вы расстилаете перед нами златотканые ковры фантазий, словно какая-нибудь Шехерезада, – сказал ему однажды Барант.
И в ответ Пушкин прочел и перевел нам свои строфы о великом фантасте и мудреце Персии певце Саади: 1
В прохладе сладостных фонтанов
И стен, обрызганных кругом,
Поэт бывало тешил ханов
Стихов гремучим жемчугом.
На нити праздного веселья
Низал он хитрою рукой
Прозрачной лести ожерелья
И четки мудрости златой.
Любили Крым сыны Саади,
Порой восточный краснобай
Здесь развивал свои тетради
И удивлял Бахчисарай.
____________________
1 Заменяем французскую версию д'Аршиака известным русским текстом. Издатель.
Его рассказы расстилались
Как эриванские ковры,
И ими ярко украшались
Гиреев ханские пиры.
Но ни один волшебник милый,
Владетель умственных даров,
Не вымышлял с такою силой,
Так хитро сказок и стихов,
Как прозорливый и крылатый
Поэт той чудной стороны,
Где мужи грозны и косматы,
А девы гуриям равны.
Если в своей вдумчивой речи Пушкин был медлительно-плавен, то стихи он читал нараспев, по всем правилам классической школы, стремившейся довести монотонные александрийцы трагедий до торжественной декламативной кантилены.