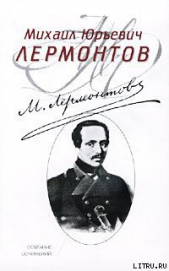Очерки и рассказы (сборник)

Очерки и рассказы (сборник) читать книгу онлайн
Содержание:
Под вечер
На ходу
Бабушка Степанида
Дикий человек
Переправа через Волгу у Казани
Немальцев
Вальнек-Вальновский
Исповедь отца
Жизнь и смерть
Два мгновения
Дела. Наброски карандашом
Когда-то
Клотильда
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он не кончил своей песенки: он так и уснул у меня на плече своим вечным сном, тихий, задумчивый, среди огней догорающего дня, вспыхнувшего моря, аромата вечернего сада… Птичка смолкла и, вспорхнув, утонула в небе…
Мы стояли неподвижные, осиротелые, я с дорогой ношей на плечах, с ужасным сознанием непоправимости.
Кому нужно теперь мое убеждение, что ему же на пользу я действовал? И где эта польза?!
Этот крошка приходил сюда, на землю, чтобы спеть свою маленькую, очень коротенькую песенку любви. Ты мог этому певцу дать все счастье, – оно от тебя зависело. Ты дал ему?
Ты отнял у него это счастье. За отнятое счастье мстят… Чем он отомстил тебе? Он пел, он умер с песней любви к тебе – он, маленький страдалец, который спит теперь вечным сном на твоем плече!
А помнишь, как он судорожно, весь напряженный, торопливо собирался тогда с няней и братиком уйти от тебя, как говорил он возбужденно: «Уйдем и возьмем братика у папы…» Он никуда не ушел, он здесь, у тебя на плече…
О, какими пророческими словами были его слова относительно брата его. Гари! Когда Гаря плакал так же, бывало, как тот, которого уже не было больше с нами, я не Гарю слышал, – я слышал того, по ком болело так сердце. Слышать его опять в своем доме, слышать и казниться, слышать и искупать свою вину – не было большего для меня удовлетворения.
Гаря мог плакать, – и он плакал, видел бог как, и видел бог, как не раздражались больше мои нервы. О, я научился владеть ими. Они не смели раздражаться больше. И когда я подходил к нему, у меня не было больше мысли об авторитете: я только страдал и любил, как любил Коку его двоюродный брат, терпеливый Володя. Он, Гаря, мог смотреть на меня с бешенством, с раздражением. Но он не смотрел так: он смотрел так, как Кока когда-то смотрел на Володю, растирая слезы, чтобы видеть меня, и выл и выл мне тоскливую песню своего больного тела, своих больных нервов.
Нет, ни с кем маленькому Гаре не плакалось так легко, как со мной, сидя в кресле, у меня на коленях и смотря мне в глаза.
Теперь моему мальчугану уже пять лет.
Он уже выплакал все свои слезы и стал таким веселым, как и все дети.
Здоровье его с каждым днем улучшается: голова у него большая, да он и сам бутуз, сбитый и твердый.
И его звонкий, басом, смех разносится по комнатам, и хотя слышится в нем еще какая-то больная нотка, но Гаря знает, что никто не коснется грубой, неумелой рукой его больных нервов.
У него бонна. – немка. В течение года он переменил трех и не сделал никаких успехов в языке. Третью, совсем молоденькую, любящую, тихую, он полюбил и в два месяца заговорил с ней по-немецки. Теперь он думает на этом языке.
Я это вывожу из того, что он с собаками, например, говорит по-немецки.
И надо видеть, какие они друзья со своей бонной!
У них свои разговоры, свои секреты и самая чуткая, нежная любовь друг к другу: они товарищи.
Но больше всех он все-таки любит меня.
Когда мои занятия требуют отлучек из дому, то тяжелее всех разлука со мной для него. Зато и радость его, когда я приезжаю…
В последний раз я приехал домой утром.
Жена еще спала, и я прошел к нему в детскую.
Он был там со своей бонной. Что-то случилось: на полу лежал разбитый стакан, стояли над ним он и бонна. Бонна добродушно, по-товарищески, голосом равного отчитывала его.
Гаря стоял со смущенной полуулыбкой и недоверчиво слушал бонну.
Дверь отворилась, и вошел я.
Он посмотрел на меня, – не удивился, точно ждал, и с той же улыбкой, с какой он слушал бонну, пошел ко мне.
Я схватил его, начал целовать, сел на стул, посадил его на колени и все целовал.
Он казался совершенно равнодушным к моим поцелуям.
Он рассеянно гладил мои щеки и говорил, и язык его, как и у Коки, тяжело поворачивался во рту, точно там было много чего-то очень вкусного. Он говорил мне о том, что только всплывало ему в голову.
Но вдруг, нежно сжимая ручонками мои щеки, встрепенувшись весь сразу, он спросил:
– Ты приехал?
Каким-то кружным там путем – сознанье, что я приехал, стало у него теперь в соответствие с радостью его сердца, и он повторял, все нежнее сжимая ручонками мои щеки:
– Ты приехал?!
Он забыл все: он помнил теперь только, что я приехал; он видел меня и сознавал, понимал, чувствовал, что я приехал.
– Ты приехал?! – повторял он голосом музыки, голосом детского счастья.
А глазки его сверкали огнем, каким не сверкают никакие драгоценные камни земли, потому что это был чудный огонь счастливой детской души, – он проникал в мое сердце, будил его, заставлял биться счастьем, радостью искупления, заставлял забывать нежный упрек печальных черных глазок того, который спел уже свою песенку любви, который сдержал свое слово, когда говорил:
– Я возьму моего братика у папы…
Он действительно отнял у меня несвободного, чувствующего отцовское иго сына. Но он дал мне другого: вольного, как сердце, свободного, как мысль, дарящего меня счастьем самой высшей на свете любви свободной любви.
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
Не тяготиться, не остывать, быть терпеливым, отзывчивым, добродушным, торопиться любить, в сознании, что уже стоишь у порога вечности, – вот в чем долг.
Таким и был Константин Иванович Колпин, проживший десять лет в наших местах в должности земского врача в с. Линовке, Самарской губернии и уезда.
Там и умер он, и теперь на бедном сельском кладбище в углу стоит и его могилка с деревянным местной работы крестом – скромная, простая, в тон всему кладбищу, всей местной жизни, в тон тому кто спит своим вечным сном под ней.
Многие из тех, кто будет читать эти строки, знали Константина Ивановича. Высокий, худой, с маленьким, болезненным лицом, со взглядом, сознающим непрочность всего земного, непрочность своего собственного «я». Как доктор, он знал, что у него порок сердца, и внимательно следил за развитием своей болезни. Без этого он не прожил бы и пяти лет с окончания своего курса, а он прожил все на том же месте десять.
Говорили, что последние месяцы жил уже не он, а его наука.
За час до смерти он еще раз принял лекарство, сказав спокойно, с кроткой улыбкой:
– Этого можно было бы и не принимать: все, решительно все симптомы смерти уже налицо…
Он умер в мае. В его открытое окно смотрело безмятежное голубое небо, нежный ветерок лениво колыхал молодую листву деревьев, весь аромат далеких зеленых полей.
Он умирал, а над его окном с энергией весны, весело, озабоченно щебетали воробьи, чирикала ласточка, какая-то птичка звонко и нежно, как выражение блаженства, в тон всему ликующему, оглашала воздух своей короткой, страстной трелью.
Он, очевидно, наслаждался еще и этой чудной жизнью весны и, вздохнув, попросил, как воспоминание о жизни, в изголовье его гроба положить свежей травы.
Он умер тихо, вздохнув глубоко-глубоко…
За его гробом шла густая толпа бедных людей, потому что с ними вместе он пережил два голода, два тифа, две холеры.
После его смерти только и нашли полный стол игрушек: копеечные лошадки, деревянные куколки.
Там, в нищенской избе, за этой лошадкой тянулась маленькая больная ручка, и в глазах ребенка загорался тот огонек радости, который грел большую душу доктора и был необходим ему.
За его гробом шли все эти его крестники, сиротки, все те, кому оставлял он свои крохи – жалованье земского врача.
Уже почти перед смертью, за несколько месяцев всего, он получил тяжелобольную – мать большого семейства. Это была сложная, тяжелая болезнь, диагноз которой он поставил совершенно иной, чем как определяли болезнь светила медицинского мира. И он оказался прав. Там, у постели этой больной, он и оставил свои последние силы. Но он возвратил ей жизнь, возвратил детям мать, и шутя, пренебрежительно говорил на упреки в переутомлении:
– Вам нужнее жить…
За два дня до его смерти она, в первый раз встав с постели, приехала навестить его. Все два дня до его смерти она провела, ухаживая за ним, – это была вся его награда.