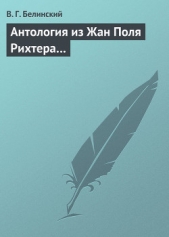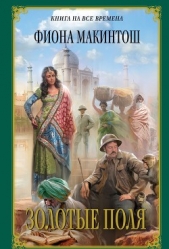Чернозёмные поля

Чернозёмные поля читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Алёша родился и вырос хилым петербургским ребёнком, смутно полагавшим, что все припасы приготовляются в мелочных лавочках на углу петербургской улицы или, по большей мере, в милютиных и елисеевских лавках на Невском проспекте. Лошадей он видел только в лакированных экипажах на плоских рессорах, в серебряных наборах, учёных, послушных, красивых. Мужик ему представлялся или в виде сытого дворника в чистом фартуке, получающего пятнадцать рублей серебром в месяц, или в виде пузатого бородача-кучера в красивом армяке, шляпе и перчатках, а баба в виде откормленных румяных кормилиц в парчовых кокошниках, бусах и ярких сарафанах. Алёша тем крепче верил в свои представления, что на всех картинках, которые покупали ему и которые он иногда видел в окнах магазинов, лошади, мужики и бабы были нарисованы исключительно в этом одном виде рысаков, кучеров и сарафанниц. Татьяна Сергеевна возила его раза три в театр, где в драме Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла» и в «Русской свадьбе XVII столетия Алёша тоже видел много русских мужиков и баб; но и они нисколько не разубедили его в составленном им честном мнении о благообразии и благосостоянии мужика.
Настоящего «мужицкого» мужика Алёша в первый раз хорошенько рассмотрел в селе Спасах. Там жили мужики не в красных рубахах и лакированных сапогах. Там расстилалась на необозримые пространства, на север, юг, восход и закат, подлинная сермяга, поскон и лапоть. Там копошились в грязных дымных лачугах корявые и нечёсаные фигуры, нисколько не походившие ни на петербургского кучера, ни на московскую кормилицу. Там были запряжены оборванными верёвками в изломанные, трясучие тележонки выродившиеся, надорванные клячи, гораздо более похожие на телят или ослов, чем на благородного крутошеего рысака, размашисто несущего по Невскому проспекту лаковые санки с медвежьей полостью. На Алёшу напал какой-то бессознательных ужас в первые дни деревенской жизни. Он раскрыл рот и глаза на всё, неожиданно представшее ему, и напитывался новыми впечатлениями с болезненным замиранием сердца. Он видел кругом грязь, лишенья, мучительный труд, вопиющую несправедливость, вопиющую неравномерность, скотскую грубость и жесткость. Он видел, что ужасавшее его — целый океан, целая стихия, что в нём, как скорлупа в море, теряется та кучка избранников счастия, по которым он до сих пор составлял свои понятия о целом мире. В этом был главный источник его ужаса. Алёша был мальчик болезненного развития, нервный и впечатлительный до последних пределов. Петербург доконал его организм, обескровил его и ещё более раздражил нервы. Татьяна Сергеевна, её гувернантки и советчики не понимали ни организма, ни психики Алёши, и делали всё, чтобы в одно и то же время раздражать его впечатлительность и загонять эту впечатлительность внутрь, в безмолвные тайники сердца, в темноте которых так часто зреют у детей, не замечаемые поверхностными воспитателями, глубокие симпатии и антипатии, решения, вкусы и убеждения, определяющие всю их последующую жизнь.
Алёша приехал в Спасы с привычкою упорного сосредоточенья в себе и потребностью неутолимого внутреннего анализа всего, что совершалось кругом. Способности его были в некоторых отношениях блестящи до гениальности, но именно только в некоторых отношениях; что его не интересовало, в том он не мог успевать. У него не было этого дешёвого уменья усвоивать на заказ всё и вся, по мановению чужой воли, — уменья, которое, к несчастью, так распространено в наших учебных заведениях и которое, ещё к большему нашему несчастью, почти везде служит мерилом достоинства и успеха. Алёша не умел принуждать себя; засесть с трёх до четырёх часов за латинскую грамматику, с четырёх до пяти — за географию, с пяти до шести — за математическую задачу, и всеми этими предметами заниматься с одинаковою безучастною добросовестностью, аккуратно и терпеливо каждый Божий день, какова бы ни была погода на дворе, каковы бы ни были мечты в голове, как бы ни билось в груди живое сердце, — всего этого, на что так бывают искусны так называемые «отличные ученики» учебных заведений, Алёша осилить не мог. Математики он совсем не любил и плохо понимал её. Если бы нашёлся умный человек, который бы раскрыл перед разумом Алёши истинный смысл и истинную красоту этой науки наук, Алёша, по характеру своих вкусов, был бы увлечён математикой совсем с головой; он томился инстинктивною жаждою абсолютного, всеразрешающего, всеподчиняющего принципа. В этом стремлении была вся особенность и сила его духа. Но бездарные люди учили его скучному счётному мастерству, и он получил глубокое отвращение от науки, наиболее соответствовавшей его способностям. Мисс Гук точно так же была убеждена, что у Алёши нет памяти и вкуса к истории и географии; в своём аккуратном журнальчике, где она в бесчисленных графах записывала, с соблюдением тончайших оттенков, успехи и поведение детей в классах и даже вне классов, Алёше постоянно писалось за Chronology — Bad и Very bad; почти так же аттестовался бедный Алёша и в графе географии, а в графе, исследовавшей степень внимания детей во время вечерних уроков, мисс Гук своим красивым и ровным почерком ежедневно ставила одно и то же выраженье, казавшееся ей весьма укоризненным : « sleepy and absent». Алёша попал у своих домашних в лентяи и бездарности, в то время как его огненный мозг и трепетные нервы надрывались непобедимою жаждою самого глубокого и всестороннего знания.
Татьяна Сергеевна была добра и ласкова по натуре, но по легкомыслию своему она совершенно отодвинулась от воспитания сына; её занимало петербургское общество, невинное хвастовство своими деловыми и семейными добродетелями за чашкой кофе, у себя или у знакомых, домашние сплетни с гувернантками. В воспитательный гений мисс Гук она веровала всецело и с удовольствием лишала себя права вмешиваться в её действия.
— Я не смею, я не должна оскорблять этой необыкновенной девушки, — любила говорить на этот счёт Татьяна Сергеевна. — Это олицетворённое самоотвержение и олицетворённая педагогия; если бы мы жили в эпоху древних греков, её бы сделали богиней педагогии! — патетически уверяла Татьяна Сергеевна. — Признаюсь вам, mesdames, я сама училась хорошо и таки могу сказать смело, смыслю кое-что в этом деле; но у меня бы не достало сотой доли того ангельского терпения, той железной настойчивости и той громадной начитанности, которыми обладает эта несравненная мисс Гук. Уверю вас, я начала спать спокойно только с её приезда; это мой ангел-хранитель; когда она при детях, я знаю, что это лучше, чем бы я сама была при них.
Татьяна Сергеевна ошибалась даже в этом последнем случае. Как бы ни была проста и невежественна мать, редко любовь её может так грубо ошибиться в истинных свойствах и вкусах своего ребёнка, как зачастую ошибаются, к непоправимому вреду своих питомцев, самонадеянные воспитатели, чуждые им и духом, и кровью. Татьяна Сергеевна с горем пополам считала своим долгом журить Алёшу за лень и невнимание, но, по материнской слабости, всё-таки пыталась легонько отстаивать своё детище перед строгою англичанкою.
— Ах, мисс Гук, если бы вы знали, сколько он перенёс разных болезней, — говорила она в извинение Алёши. — Он такой слабый мальчик. К тому же он так застенчив. Я очень боюсь, что он никогда не выдержит никакого экзамена.
Татьяна Сергеевна знала в Алёше только его нынешнюю сторону — слабость физических сил и застенчивость с людьми; она никогда не говорила с ним интимно, никогда не пыталась заглянуть в то глубокое психическое море, на дне которого растут у человека его жемчуги и живут его чудовища. Никто бы так не удивился, как она, если бы каким-нибудь волшебством вдруг сделались ясны свету Божьему те серьёзные мысли и те глубокие чувства, какие втихомолку зрели на железной кроватке в углу её детской. Эта добрая, но пустая мать, воображавшая, что она крайне снисходительна к лени и слабостям своего Алёши. никому бы не поверила, что в этом лентяе рдел мозг, достойный Паскаля. Алёша не хотел учиться тому, чему его учили, потому что в сухой и бессодержательной обработке учебников не узнавал духа, которому он служил, которого везде искал. Он искал разъяснения жизни и природы, — ему давали слова и формулы, не вдыхая в них смысла. Он искал истины, — его принуждали глодать разбитые кусочки её скорлупы. Убедясь, что учителя — враги, что учебники — враги, что мать не хочет и не может его знать, Алёша сам стал смотреть на людей и их требованья с враждебным недоверием. Он рано сделался скрытным, упрямым, застенчивым. Ему не хотелось ни с кем говорить ни слова. Зачем говорить? Он заранее знает, что они скажут, чего потребуют; ему этого не нужно; что ему нужно, того они не знают, над тем они будут смеяться. Кроме посетительниц и посетителей гостиной Татьяны Сергеевны, Алёша никого не видал. Он часто подслушивал, завернувшись в тяжёлую гардину двери гостиной, что такое говорят с его мамой эти гости. Ему всегда делалось стыдно и скучно после этих пустых разговоров, где ежедневно несколько раз повторялись те же неинтересные новости, где все по очереди сплетничали друг на друга, не исключая и Алёшиной мамы; мама так много выдумывала гостям про своих детей, про свою жизнь, что Алёша краснел за неё в своей засаде. «Зачем она выдумывает и всем повторяет одну и ту же неправду? Разве это им весело и интересно?» — щемило у него на сердце.