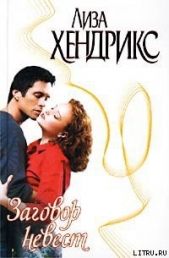Новеллы

Новеллы читать книгу онлайн
Герман Брох (1886–1951) — крупнейший мастер австрийской литературы XX века, поэт, романист, новеллист. Его рассказы отражают тревоги и надежды художника-гуманиста, предчувствующего угрозу фашизма, глубоко верившего в разум и нравственное достоинство человека.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Поскольку ее развеселил собственный вывод, я согласился:
— Да, конечно, жестокое противоречие.
— Разумеется, встретятся трудности, это ясно… но поймите, после всего, что произошло, мне было не миновать коммунистического пути, потому что коммунистическая идея основана на справедливости и потому что она требует, как это ни сурово само по себе, растворить индивидуальное в коллективном — это единственная возможность освободить человека от снедающего его внутреннего смятения и страдания, в коллективе он может скорее о нем забыть… Справедливость — земной рай…
— И ради этого вы готовы отменить деторождение?
Ее улыбка стала серьезной:
— Конечно, этого нельзя отменить, это значило бы отменить бесконечность… И все же человек не вправо жить для своего счастья; пока не решены более важные задачи, а сейчас дело обстоит именно так… это касается и меня… и моего стремления иметь ребенка… — Сжав сигарету губами, она затянулась: — Я чувствовала, что обязана рассказать вам все, я могла ответить вам только полной откровенностью… а потому не принимайте эту историю за одну из исповедей, которыми любящие хотят осчастливить друг друга или вызвать ревность… Я знаю, что вопль о ребенке может тронуть мужчину, особенно если мужчине при этом предлагается стать отцом, но я надеюсь, что все вместе привело к противоположному результату и ваше намерение жениться ослабло, хотя бы из-за ревности, для которой моя жизнь дает достаточно поводов, — она говорила псе холоднее и наконец спросила уже совсем недружелюбно: — Налить вам еще чаю?
— Я люблю тебя, — сказал я, или, вернее, вырвалось у меня.
Она уставилась на меня, ее гневный взгляд покоился в моем, бесконечно далекий, бесконечно близкий, потом се глаза затянулись пеленой, и она заплакала.
— Да, я люблю тебя, — снова что-то заставило меня проговорить эти слова, ведь я знал, что больше никогда не смогу уйти от нее, — я очень люблю тебя, я полюбил тебя навсегда.
— Идите, — сердито накинулась она на меня, а слезы бежали у нее из глаз и блестящим бисером скатывались по щекам.
Я взял ее за руку. Сначала она не сопротивлялась, а потом, отняв руку, мягко погладила меня по волосам — так легко и нежно, как вот уже тридцать лет никто не гладил меня.
— Иди, — сказала она кротко и просительно, — иди.
Я шел от нее, погруженный в размышления, испытывая, однако, ясное, почти деловитое чувство безусловной уверенности. Будь на моем месте человек помоложе, он, вероятно, остался бы, чтобы сломить ее сопротивление, а если бы и ушел, то его побудили бы к этому или ревность, или, по крайней мере, какие-нибудь романтические мотивы. Я же не был ни ревнивым, ни романтичным. Когда дело доходит до глубинного познания личности и се судьбы, то марионеточная призрачность отмершего, которое продолжает жить в чувстве ревности, исчезает от соприкосновения с гуманностью. А пути и перепутья, по которым решительно шла эта женщина, не только привели ее к делу жизни, которое и было ее призванием, не только приобщили ее к гуманному ядру всех закономерностей, к терпеливому, прилежному, настойчивому созиданию, по и были, кроме того — хотя едва ли она это понимала, — земным отражением ее дороги к самой себе, это были пути, по которым она должна была пройти, достигая благодаря земному деянию сути своей личности, чтобы эта суть, по измеримому узнавая собственную неизмеримость, отделялась от своей бездонной темноты и поднималась до высот сознания. Конечно, то был мужской путь, на который ее вынудила ступить суровая юность, путь, предопределенная радикальность которого настолько однозначна, что дойти по нему до желанной цели — абсолютного подобия земного идеальному — под силу только великим спасителям мира. Это путь не для простых смертных, и тем более не для женщины, чья женственность, несмотря на все уже достигнутые высоты сознания, заявляет о себе и пытается утвердиться слишком быстро и слишком болезненно. Однако именно это сознание, которое, несомненно, стало ее неотъемлемым достоянием, способствовало моей уверенности и убеждению, что она выйдет из серьезной внутренней борьбы, которая в ней происходила, сохранив личность, даже если это будет достигнуто ценой новой утраты некоторых сторон уже обретенного ею сознания и ценой возврата ради желанного ребенка какой-то части ее существа к анонимно-природному. Все же это не означало бы отмены столь горько добытого самоосвобождения чего она, возможно, боялась, а, напротив, могло стать его завершением во втором и еще более необходимом акте освобождения, словом, в совершенном растворении себя в ребенке, существованием которого закладывается основа второй действительности каждой женщины, прочности «ты» и мечты о светлой общности в любви — ко мне или к другому, безразлично. Так, видимо, я рассуждал бы, если бы вообще рассуждал, но на самом деле вся моя уверенность влилась в меня из ее руки в ту единственную секунду, когда я ощутил ее на своей голове; я чувствовал, что это прикосновение вовлекло меня в мечту об общности, меня, мечтающего и сотворенного мечтой, от него пришла уверенность в существовании «ты есть» и твердость того предчувствующего знания, которое предвидит постижение личностью своей сути и цельности не в бесконечных далях, а совсем близко, потому что ему открылось «ты»; прислушиваясь к отзвукам «ты» и слыша свое «я», человек обретает подлинно человеческий облик, он может отречься от себя и вернуться в великое лоно природы, погружаясь в жизнь, в мироздание, в плодоносное умирание; он и есть сама природа — человек в творящей сотворенности своего существа, источник которого лежит во внутреннем, а не во внешнем, и, освобожденный от трех измерений пространства, несущий в себе миры, несущий в себе совершенство, он вмещает в себя любой ландшафт. Так, движимый уверенностью в будущем, которая была в то же время уверенностью в настоящем, и и даже уверенностью в прошлом, ибо ее воспоминания стали и моими, я ушел от нее, ее не покидая: я знал, что ожидание, на которое я обрекал себя, не было ожиданием во времени, это было вневременное созревание в том вневременном предсуществовании души, которое таит в себе личность, созревание общего, не связанного со временем освобождения, которым живет наша истинная действительность. В кротком летнем небе плыли созвездия, отражая жизнь — эту игру неизмеримостей, это рассеяние реально-человеческого в невыразимом, — и я, проходя по больничному саду, ощутил внятность и подлинность происходящего.
Пусть даже моя уверенность не оправданна, мои соображения ошибочны, мои надежды приведут к отчаянию, все равно не было смысла поступить тогда по-другому; все равно события шли бы своим чередом. В глазах любимой женщины я, несомненно, поступил правильно, и в последующие недели ее растущее доверие было, конечно, плодом моего отказа. Это было доверие и это было напряжение. Однажды утром она пришла ко мне с большим запечатанным пакетом:
— Я собираюсь обойтись с вами непозволительно бесчестно, бесчестно потому, что вы не откажете мне в просьбе. Вы должны найти в себе мужество спрятать запрещенную литературу, мужество, правда, не очень большое, так как у вас ее никогда не будут искать.
Па краткий миг меня остро и зло пронзило подозрение, что, быть может, ее благосклонность была только тактическим маневром, чтобы заставить меня помогать ей в политических делах, но потом я увидел ее глаза, их смелое, суровое спокойствие, и понял, что она говорит искренне.
— Не вижу тут ничего бесчестного, — сказал я, — или вы считаете, что вам следовало бы теперь пожертвовать собой, чтобы оплатить мне оказанные вам политические услуги? Благородные шпионки в кино поступают именно так…
Она не улыбнулась.
— Шутки неуместны ни в политике, ни в любви… я чертовски серьезно отношусь и к тому, и к другому… ах, боже…
Она замолчала.
— Ну, а при чем тут «ах, боже»?
— При том, что все это более чем серьезно, серьезнее некуда и очень опасно, да к тому же и вас я не щажу… но революции не делаются деликатно, таковы уж наши методы…