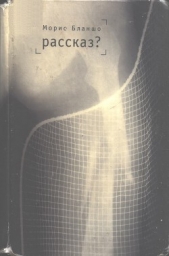Ожидание забвение

Ожидание забвение читать книгу онлайн
Морис Бланшо — один из оригинальнейших мыслителей нашего века. Мишель Фуко хотел в молодости писать «как Бланшо»; Жак Деррида посвящает разбору автобиографического текста Бланшо, умещающегося на полутора компьютерных страницах, книгу в полтораста страниц- так властители дум нового века реагируют на скромную и сосредоточенную мысль Мориса Бланшо. «Ожидание забвение» — последнее из крупных художественных произведений писателя, здесь он впервые обкатывает ставшее потом знаменитым (в частности, у Ролана Барта, Жака Деррида) так называемое фрагментарное письмо.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Естественно, что столь обремененная не до конца проявленным философским контекстом (кстати, первые отрывки из «Ожидания забвения» были опубликованы в 1959 году в чествующем Хайдеггера сборнике философских работ) беллетристическая книга вызвала весьма разноречивые отклики, а также побудила к собственным над ней размышлениям нескольких видных философов и критиков. Хотя эти размышления подчас весьма индивидуальны и сами по себе могут быть достаточно сложны, мы решили сопроводить некоторыми из них основной текст, в надежде, что диалог мысли подобного ранга с ей подобной невольно должен затронуть и всякую другую ищущую мысль. В качестве общего — и очень индивидуального — подступа к творчеству Бланшо приведена короткая заметка видного современного философа Жан-Люка Нанси, опубликованная в посвященном писателю специальном номере журнала «Ralentir travaux» в январе 1997 года. Знаменитое эссе Бланшо «Взгляд Орфея», впервые опубликованное в июне 1953 года, служив, по-видимому, незаменимой путеводной нитью всякому, кто собирается пуститься в путь по лабиринтам его прозы.
Особого внимания заслуживает текст одного из крупнейших французских философов XX века Эммануэля Левинаса (1906, Каунас — 1995), который в 20-е годы обучался в Страсбургском университете, где и познакомился с другим студентом — Морисом Бланшо. Отправляясь от феноменологии Гуссерля и «Бытия и времени» Хайдеггера, первым пропагандистом мысли которых во Франции он явился, Левинас впоследствии развил самостоятельную, в отличие от хайдеггеровской, этически ориентированную философскую систему, центрирующуюся вокруг идеи Другого, инспирированной изучением — в противовес досократикам — еврейской традиции.[20] Левинаса и Бланшо на протяжении десятилетий связывала тесная дружба (по словам Бланшо, Левинас был единственным, с кем он за всю свою жизнь перешел на «ты»), взаимное уважение к мысли друг друга — и определенная мысли же близость; в академических философских кругах даже укоренилось отношение к Бланшо как к своего рода «секуляризатору» системы Левинаса. Сам Левинас относится к проблеме отношений творчества Бланшо и собственной философии существенно осторожнее; несколько его эссе о Бланшо собрано в книге «О Морисе Бланшо» (1975). Вошло туда и представленное здесь эссе, впервые увидевшее свет в журнале «Critique» в 1966 году. Несколько ранее откликнулся на выход «Ожидания забвения» и известный поэт, философ по образованию, Мишель Деги; его рецензия была опубликована в октябрьском за 1962 год номере журнала «La Nouvelle Revue Francaise». И, наконец, последнее из представленных здесь эссе написано по-английски профессором университета в Беркли, американской переводчицей Бланшо Энн Смок в 1996 году.
И, чтобы, наконец, закончить, еще одно свидетельство безмолвного — дружеского — диалога-общения: по признанию Беккета, с которым критика часто сближала и сближает Бланшо, он узнал себя за одной из самых запоминающихся фраз «Ожидания забвения»:
«Эта равномерная речь, пространная без пространства, утверждающая, не дотягивая ни до какого утверждения, которую невозможно отрицать, слишком слабая, чтобы смолкнуть, слишком покорная, чтобы ее сдержать, ничего особого не говорящая, всего-навсего говорящая, говорящая без жизни, без голоса, голосом тише любого голоса: живущая среди мертвых, мертвая среди живых, призывающая умереть, воскреснуть, чтобы умереть, призывающая без зова».
notes
Примечания
1
Возможно. Мы имеем дело не с аллегорическими персонажами. Чувственная наполненность этих тем не менее оголенных и как бы абстрактных фигур вполне целостна; невольно схлестываешься с плотностями и массами, расставленными в реальных измерениях и следуя свойственному им порядку, что, будто в бреду, порождает едва ли передаваемые, как только спадет горячка и займется день, проблемы. К этому сводится весь рельеф литературного пространства Бланшо. Значение его мира касается и нашего. Но толкование — как раз то, что подобное произведение отвергает. Возможно, все оно целиком — разрыв той оболочки, которой непротиворечивое говорение пытается окружить каждое движение. Нужно ли, позабыв об опасности их погасить, пытаться задержать некоторые из этих отблесков? Здесь все должно высказываться в модальности «быть может», как поступает и сам Бланшо, когда хочет объяснить, что же говорится в его книгах.
2
Дабы установить эту модальность, у Бланшо не вмешивается никакой элемент морали. Привилегией исчезнуть с горизонта — выйти за его пределы, — чтобы отвечать из глубин своего отсутствия лишь на зов лучших, она обязана не своей бедности, как и не преследованиям или презрению. И тем не менее, подчас трансцендентность сработана у Бланшо из самой недостоверности присутствия, «словно она присутствовала только для того, чтобы помешать себе говорить. А потом приходили мгновения, когда, поскольку рвалась нить их отношений, она вновь обретала свою безмятежную реальность. Тогда он лучше видел, в состоянии какой необычной слабости она пребывала, откуда черпала ту властность, которая временами заставляла ее говорить». Мы говорили выше, что слово «поэзия» указывает для нас на разрыв имманентности, на которую оказывается, сам себя заточая, осужден язык. Мы, конечно, не думаем, будто этот разрыв является чисто эстетическим событием. Но слово «поэзия» в конечном счете не служит отсылкой к некоему виду того рода, что обозначается словом «искусство». Неотделимое от глагола, оно преисполнено пророческого значения.
3
Отметим также и сходство касающихся ожидания сентенции с посвященной вниманию мыслью Симоны Вейль (в «Ожидании Бога») (прим. пер.).
4
в пути (фр.) (прим. пер.)
5
в «Кромешном письме» (L'Ecriture du desastre, 1986) (прим. пер.)
6
или: «Сделай так, чтобы я могла с тобой поговорить» (прим. пер.)
7
Трактовка этого места текста представляется нам ошибочной. У нас: «К речи, так сказать, запретной (interdite)» (прим. пер.)
8
центральная точка (фр.)
9
В первую очередь во «Взгляде Орфея» (прим. пер.)
10
и русским (прим. пер.)
11
Recit — Рассказ, повествование (фр.). О роли этого понятия у Бланшо см. его эссе «Пение Сирен» в книге М. Бланшо, Последний человек, СПб., 1997 и наше послесловие к этой книге.(прим. пер.)
12
в оригинале «отвернувшись от своего присутствия, чтобы друг для друга присутствовать» (прим. пер)
13
скорее запрещена. (прим. пер.)
14
Если роман понимается Бланшо вполне в русле литературных канонов, то противопоставляет он ему свое собственное, новое для литературоведения жанровое определение — recit, которое мы с известной долей приближения переводим как рассказ. Это не рассказ или повесть в традиционном смысле этого слова (Бланшо числит по разряду рассказа и «В поисках утраченного времени», и «Моби Дик»), recit, как правило, вовсе не употребляется для обозначения жанра. Французское слово recit — отглагольное существительное, обладающее привкусом повторности и сохранившее в себе сильный заряд действия, recit — это процесс, но не жанр, рассказ как речитация, рецитирование.