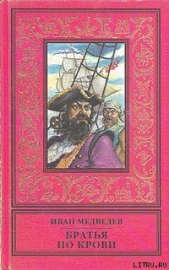Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен

Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен читать книгу онлайн
В истории французского реалистического романа второй половины XIX века братья Гонкуры стоят в одном ряду с такими прославленными писателями, как Флобер, Золя, Доде, Мопассан, хотя их литературный масштаб относительно скромнее. Лучшие их произведения сохраняют силу непосредственного художественного воздействия на читателя и по сей день. Роман «Жермини Ласерте», принесший его авторам славу, романы «Братья Земганно», «Актриса Фостен», написанные старшим братом — Эдмоном после смерти младшего — Жюля, покоряют и ныне правдивыми картинами, своей, по выражению самих Гонкуров, «поэзией реальности, тончайшей нюансировкой в описании человеческих переживаний».
Вступительная статья — В.Шор.
Примечания — Н.Рыков.
Перевод с французского — Э.Линецкая, Е.Гунст, Д.Лившиц.
Иллюстрации — Георгий, Александр и Валерий (Г.А.В.) Траугот.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда через месяц вернулась мадемуазель, Жермини уже встала с постели, но была так слаба, что ей ежеминутно приходилось садиться, и до того бледна, точно в жилах у нее текла вода. Она сказала, что чуть не умерла от потери крови, и мадемуазель ничего не заподозрила.
XXXV
Жермини встретила мадемуазель растроганными ласками и горючими слезами. Она была нежна, как больной ребенок: та же томная кротость, тот же умоляющий взгляд, та же робкая, пугливая печать страдания. Ее бледные руки с голубыми венами все время тянулись к мадемуазель. Она подходила к ней с благоговейным и боязливым смирением. Чаще всего она усаживалась на низенькой скамеечке напротив своей госпожи и смотрела на нее снизу вверх по-собачьи преданным взглядом, потом внезапно вскакивала, целовала край платья мадемуазель де Варандейль, снова садилась и через минуту снова вскакивала.
В этих ласках и поцелуях была и мука, и мольба о прощении. Смерть, которая явилась Жермини в образе существа, чьи шаги неотвратимо приближались к ней, дни болезни, когда, одиноко лежа в постели и перебирая свою жизнь, она воскрешала прошлое, стыд при мысли о том, что она скрыла от мадемуазель, страх перед божьим судом, рожденный былым благочестием, терзания и ужасы, не дающие покоя страдальцу в час агонии, — все это превратило ее совесть в кровоточащую рану, и угрызения, которые она так и не смогла убить в себе, теперь обрели новую силу и громко кричали в ней, ослабевшей, смятенной, почти оторвавшейся от жизни и не верящей в то, что снова к ней прирастет.
Жермини не принадлежала к счастливым женщинам, которые, совершив грех, тут же забывают о нем, никогда не возвращаются горестной мыслью к содеянному. Она не была похожа на Адель, не принадлежала к тем грубо организованным материальным натурам, которым доступны одни только животные страсти. Совесть Жермини не умела уйти от страданий, замкнуться в непроницаемой тупости и бесчувственности, в которой так часто прозябают простодушные грешницы. Болезненная чувствительность, какая-то возбудимость мозга, склонность непрерывно тревожиться, думать, волноваться, ощущать горечь, быть недовольной собой, моральная требовательность, возраставшая после каждого проступка, душевная тонкость, избирательность, уязвимость — все эти свойства, соединившись, с каждым днем все безжалостней пытали Жермини и все глубже погружали ее в отчаянье по таким поводам, которые у большинства ей подобных никогда бы не вызвали столь длительных мук.
Жермини сдавалась порывам страсти, но, сдавшись, сразу начинала себя презирать. Даже в минуты наслаждения она не могла забыться, убежать от этого презрения. Перед ее глазами внезапно возникал образ мадемуазель, ее строгое и в то же время исполненное материнской нежности лицо. Все ниже падая, все больше утрачивая порядочность, Жермини тем не менее не теряла стыда. Порок, завладев ею, не уничтожил в ней гадливости и ужаса, привычка не принесла с собой отупения. Запятнанная совесть восставала против пятен, не мирилась с позором, терзалась раскаяньем, не позволяла хотя бы на секунду полностью упиться низменными удовольствиями, безоговорочно принять свое падение.
Поэтому, когда мадемуазель, не думая о том, что Жермини — всего-навсего служанка, склонялась к ней с грубоватой лаской в голосе и движениях, словно принимая ее к себе в сердце, та внезапно заливалась краской и, охваченная трепещущей застенчивостью, теряла дар речи, впадая в какой-то идиотизм от гнетущего сознания своей недостойности. Под любым предлогом она старалась уклониться, спрятаться от этой, так постыдно обманутой, любви, которая, обволакивая ее, будила и поднимала со дна души угрызения совести.
XXXVI
Удивительнее всего было то, что эта порочная и трагическая жизнь, изувеченная и низменная, оставалась тайной для мадемуазель де Варандейль. Ничем себя не выдавая, ни о чем не проговариваясь, следя за каждым взглядом, за каждым жестом, Жермини замуровала в себе горькую правду своего существования.
Однако мадемуазель порою смутно ощущала, что ее служанка не все ей рассказывает, о чем-то умалчивает, хранит какой-то секрет. Иногда в ней рождалось сомнение, недоверие, смутное беспокойство, ощущение, что еще минута — и она о чем-то догадается, набредет на след, ведущий вдаль и пропадающий во мгле. То ей чудилось, что в Жермини есть нечто глубоко запрятанное, ледяное, какая-то загадка, тень, то казалось, что выражение ее глаз противоречит словам. Сама того не желая, мадемуазель крепко запомнила любимую поговорку Жермини: «Грех утаенный — грех прощенный». Но особенно она ломала себе голову над тем, что, несмотря на прибавку к жалованью, несмотря на постоянные маленькие подарки, Жермини больше не покупала ни платьев, ни белья и совсем обносилась. Куда она девала деньги? Она как-то призналась хозяйке, что сняла со сберегательной книжки накопленные тысячу восемьсот франков. Мадемуазель размышляла об этом и приходила к выводу, что тайна Жермини, конечно, сводится к денежным затруднениям, — то ли к долгам, сделанным когда-то, чтобы помочь семье, то ли к необходимости все время поддерживать «этого чертова зятя». Жермини ведь так добра и нерасчетлива! Она до сих пор не знает цену деньгам! Мадемуазель была уверена, что дело именно в этом, а так как она успела хорошо познакомиться с неисправимым упрямством служанки, то не задавала никаких вопросов. Когда такое объяснение почему-либо переставало ее удовлетворять, она все приписывала скрытности Жермини, оставшейся в душе недоверчивой крестьянкой, которая ревниво оберегает от посторонних глаз если не всю свою жизнь, то хотя бы ее частицу, как деревенские жители прячут в шерстяном чулке сбереженные су. Или же она убеждала себя, что виною причуд и странного притворства Жермини — ее болезнь, вечное недомогание. Дальше этого любопытство мадемуазель не заходило, и мысль ее прекращала поиски, отличаясь леностью и некоторым эгоизмом — качествами, свойственными мыслям всех стариков, страшащихся проникнуть в суть вещей, в душевные тайны и не желающих слишком много понимать и беспокоиться. Вполне возможно, что эта скрытность вызвана какими-нибудь пустяками, которые не стоят волнений и раздумий, какой-нибудь перебранкой, женской ссорой. Успокоив себя таким образом, мадемуазель переставала ломать голову и тревожиться.
Да и как ей было догадаться о падении Жермини, о ее ужасной тайне? Несчастная могла непереносимо страдать, могла безудержно пьянствовать, но нечеловеческим усилием воли она все скрывала, все хранила в глубине сердца. Невзирая на свою страстную, несдержанную натуру, для которой откровенность была так естественна, Жермини не обронила ни одной фразы, ни одного слова, которые пролили бы хоть немного света, хоть луч на изнанку ее жизни.
Похмелья, унижения, печали, самопожертвование, смерть дочери, измена любовника, терзания ревности — все оставалось в ней немым и безгласным, словно она обеими руками прикрывала свое сердце. Редкие минуты слабости, когда она как бы вступала в единоборство с подступавшим к горлу горем, лихорадочные, безумные ласки, расточаемые хозяйке, внезапные взрывы нежности, которые, казалось, предшествовали признанию, всегда кончались спасительными молчаливыми слезами.
Даже болезнь, которая ослабляет тело и нервы, не смогла вырвать у нее ни слова. Правда, иной раз героическая воля изменяла Жермини. С ней случались истерики, и тогда она кричала, — но только кричала. В молодости она часто разговаривала во сне. Теперь она принудила свои сновидения к безмолвию, сомкнула им уста. Чтобы мадемуазель не догадалась обо всем по ее дыханию, она стала есть лук и чеснок, отбивая их зловонием запах перегара. Даже когда она была пьяна, когда находилась в хмельном оцепенении, стоило прозвучать шагам мадемуазель, как она просыпалась. Она все время была начеку.
Жермини вела два существования. В ней как бы жили две женщины, и, благодаря силе характера, благодаря хитрости, женской дипломатии и хладнокровию, не покидавшему ее даже в минуты опьянения, она смогла разделить эти существования, вести их, ни на секунду не смешивая, не сливать воедино таившихся в ней женщин, смогла остаться для мадемуазель де Варандейль такой же честной и рассудительной, какой была когда-то, приходить с попоек незапятнанной, возвращаться от любовника с видом целомудренной старой девы, негодующей на испорченность других служанок. Ни речь ее, ни манеры не наводили на мысль о той истинной жизни, которую она вела. Ничто в ней не говорило о ее ночах. Едва вступив на циновку, лежавшую у дверей мадемуазель де Варандейль, подходя к своей хозяйке, стоя перед ней, она начинала говорить, двигаться, даже расправлять складки платья так, что никому в голову не пришло бы заподозрить ее в близости с мужчиной. Она обо всем рассуждала свободно, как женщина, у которой нет поводов для стыда, была строга к провинностям и грехам ближних, словно сама не ведала порока, спокойно, весело, бесстрастно шутила вместе с мадемуазель над любовью; слушая ее, казалось, что она говорит о старинной знакомой, с которой давно рассталась. Для всех, кто видел ее только дома и такой, какая она была с мадемуазель де Варандейль, тридцатипятилетняя Жермини представлялась окутанной атмосферой какой-то особой чистоты, суровой и непререкаемой честности, присущей старым служанкам и некрасивым женщинам.