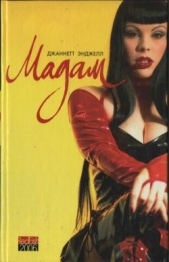Фунты лиха в Париже и Лондоне

Фунты лиха в Париже и Лондоне читать книгу онлайн
«На Рождество 1932 года Эрик Артур Блэйр привез родителям стопку пробных экземпляров своей первой книги „Фунты лиха в Париже и Лондоне“. Прочтя написанную вольным, разговорным языком хронику скитаний по дну двух европейских столиц, мать чопорно резюмировала: „Это не Эрик“. Миссис Блэйр была права; автором значился новый, никому еще не известный писатель – Джордж Оруэлл. Это потом, намного позже, его имя прогремит по всему миру, станет символом свободомыслия и будет ассоциироваться с двумя великими произведениями ХХ века: повестью-притчей „Скотское хозяйство“ (1945) и романом-антиутопией „1984“ (1949). А в 1933 году после выхода в свет повести „Фунты лиха в Париже и Лондоне“ в литературных кругах впервые заговорили о новом самобытном писателе. И уже в первом крупном произведении Оруэлла проявились основные особенности его писательской манеры и стиля, для которых столь характерны внимание к языку, простота, достоверность и точность и которые, по выражению Т.С.Элиота, отличает „коренная честная прямота“. Дебютная, во многом автобиографичная, повесть полна юмора, легка, динамична и остроумна. Не случайно многие поклонники творчества Оруэлла называют „Фунты лиха в Париже и Лондоне“ своим любимейшим произведением.
Эта книга – всего лишь яркий эпизод из большого репортажа Жизни, эпизод, вызывающий одновременно невольную усмешку и восхищение.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
30
Следующим утром мы вновь отправились искать друга Падди, который звался Чумарем, а зарабатывал как «скривер» – рисовальщик на тротуарах. Адресов в мире Падди не существовало, туманно предполагалось найти Чумаря где-то в районе Лэмбета, и в конце концов мы на него наткнулись, идя по набережной. Он обосновался близ моста Ватерлоо; стоя на коленях, перерисовывал с эскиза из грошового блокнотика портрет Уинстона Черчилля. Сходство угадывалось неплохо. Сам же Чумарь оказался маленьким, смугловатым, нос крючком и низко надвинутая шапка курчавых волос. Правая нога у него была страшно искалечена, ступня ужасающим образом вывернута пяткой вперед. Выглядел он типичным евреем, хотя всегда это решительно отрицал, называя свой крючковатый нос «римским», гордясь его подобием носу некого императора (я полагаю, Веспасиана [103]).
Речь Чумаря отличалась оригинальностью. Он говорил как кокни [104] и однако необычайно ясно, выразительно. Словно прочел много хороших книг, оставшись совершенно равнодушным к грамматике. Беседуя со мной и Падди на набережной, Чумарь изложил суть своего ремесла. Постараюсь более-менее точно воспроизвести его слова.
– Я-то, что говорится, скривер серьезный. Не чиркаю мелками, как школяры на досках, вроде разных тут. Цвет кладу по-настоящему, по-живописному; дерут только за колера драные больно дорого, особо за карминные [105]. К вечеру краски искрошишь на семь бобов, на два уж точно. Главным делом, я по карикатуре – политика, там, знаешь, крикет, все такое. Смотри сюда, – он показал мне свой блокнот, – верховные в полном комплекте, портретность прямо с газет срисована. Каждый день новую карикатуру выдаю. К примеру, как подъем финансов заявили, я дал Уинстона, вроде бы он слону под брюхо уперся, на слоне буквами «Внешний долг», а внизу надпись «Под ним поднимет ли?». Усек? Кого захочешь в карикатуру ставь, только чтоб не социалистам в масть – полиция гоняет. Раз вот изобразил: удав, который обозначен «Капитал», жрет кролика, который «Труд». Скоро пришлепал коп, глянул и мне: «Стирай мазню, вперед поберегись!». Ну, чего делать, стер. У копов власть как побирушку тебя прихватывать, с ними молчи и не вяжись.
Я спросил, сколько можно заработать таким рисованием.
– Какой сезон смотря. Без дождя, под субботу и до воскресенья, так три жвача [106] возьму – народ-то, знаешь, в пятницу с получкой. А льет если, так вовсе не ходи: краску в момент до камня смоет. На круг прикинуть – выйдет так примерно в неделю фунт, зимой-то много не наработаешь. Когда конечно День гребца или там Кубок финальный, насшибаешь полных четыре фунта. Но это, знаешь, еще колупнуть публику требуется; будешь сидеть просто, глазами хлопать, боба не соберешь. Обычный крап [107] – кидают по полпенни, а и того не кинут без зацепки. Зацепишь их на разговор, тогда им стыдно хоть какую мелочь тебе не дать. А приманить их самый правильный крючок это картину все подрисовывать: им интерес, чего ты красишь, станут и пялятся. Прокол, что только ты к ним с шапкой – команда наутек. Для верности бы козырной [108] нужен. Ты вот картину делаешь, зевак погуще собираешь, а он случайно вроде со спины их подойдет и стоит себе, тихарится – и вдруг кепчонку с головы дерг: «Судари, пожалте!», им уж деваться некуда, меж двух огней. На крап от шика-блеска не надейся. Главный крап от парней, которые попроще, да иностранцев. Мне япошки полшиллинга раз кинули, черные крапают хорошо, другие тоже. Все не такие жмоты драные, как наш английский человек. Еще вот что: монеты сразу прячь, ну пенс какой, может, оставь в шапке. Народ как видит, что уже на пару бобов накидано, так мимо – хватит, мол, с тебя.
Остальных скриверов Чумарь глубочайшим образом презирал, называя «селедками вареными». Между тем, рисовальщики трудились вдоль набережной чуть ли не на каждом шагу (корпоративно установленный минимум между «точками» – двадцать метров). С негодованием Чумарь указал на работавшего неподалеку седобородого скривера:
– Видали бестолочь? Лет десять каждый день все одну картину тут чертит: «Верный друг» это у него, как пес ребенка из-под воды спасает. Сам-то, тупой старый ублюдок, карябает не лучше ребятни. Задолбил только, что в картине растушевку пальцем наводишь, вроде как обучили мальца птичку с газеты складывать. Навалом здесь таких. Бегают, норовят идеи мои стибрить, а мне чего? Им, полудуркам, своего ни… в мозги не стукнет, так что я всяко на обгон уйду. Ты вот поди-ка ухвати самую злободневность. Слышу я однажды, что на мосту Челси мальчишка головой в решетке застрял, так у меня картина готова раньше, чем малому башку вытянули. У меня в два счета.
Чумарь казался человеком интересным, хотелось ближе с ним познакомиться. Поскольку было решено, что он возьмет нас в ночлежку на южном берегу, я вечером опять пришел к его стоянке. Смыв свой рисунок с тротуара, Чумарь подсчитал выручку – шестнадцать шиллингов, а чистого дохода, сказал он, шиллингов двенадцать. Мы двинулись в Лэмбет. Чумарь ковылял медленно, переваливаясь как краб, разворачиваясь боком при каждом подтягивании больной ноги. Для опоры в обеих руках палки, ящик с красками закинут за плечо. На мосту он остановился передохнуть в одной из ниш. Молча стоял, и я вдруг понял, что он смотрит на звезды. Тронув меня за рукав, Чумарь махнул посохом вверх:
– Гляди, Альдебаран-то? Цвет горит! Прям, апельсином…м полыхает!
Восхищался Чумарь как заправский критик на вернисаже. Он изумил меня. Пришлось сознаться, что я ведать не ведаю, где этот Альдебаран, да и каких-либо различий в цвете звезд до сих пор не усматривал. Несколько огорченный моим невежеством, Чумарь дал вводный урок астрономии с показом основных созвездий. Я, не переставая удивляться, сказал ему:
– У вас, однако, большие знания о звездах.
– Не особо. Так, кое-чего знаю. Два письма имею от Королевской обсерватории – признательности за мои заметки про метеоры. Теперь вот снова по ночам хожу смотреть их. Звезды даром представлены; глаза раскрой и без билета гляди спектакль.
– Прекрасная мысль! Мне в голову не приходило.
– Да, выискивай свой интерес. Если бродяга, так не значит, чтобы думать про один чай-с-бутером.
– Но ведь непросто увлечься чем-то – чем-то, например, наподобие звезд, – живя довольно трудной жизнью.
– Намекаешь – булыжник разрисовывая? Кому как. Не обязан ты в щель драную конопатиться, когда мозги еще не напрочь пересохли.
– По-видимому, именно это и настигает большинство.
– Конечно. Вон, на Падди погляди – готов уже, лишь бы задаром чаю где словить, огрызок выклянчить. Одна дорожка почти всем им. Кисляи драные! Но тебе что? Когда парень образование получил, потом без разницы, пускай даже весь век бродягой топать.
– Ну, у меня прямо противоположный вывод, – возразил я. – По моим наблюдениям, человек, лишившись денег, сразу теряет и все силы и способности.
– Нет, это уж кто как. Если встал на самостоятельность, так можешь жить и дальше, каким жил, есть ли деньги или нету. Всегда можешь спокойно продержаться при своих книгах, своем разуме. Только скажи себе: «А здесь-то я свободен», – он постучал по лбу, – и все, полный порядок.
Чумарь продолжал рассуждения в том же духе, я внимательно его слушал. Собеседник оказался скривером очень необычным, кроме того мне впервые встретился человек, утверждавший, что бедность не имеет значения. Я многое узнал о нем из наших бесед в последующие дни (сутками шли дожди, работать Чумарь не мог). Биография у него была довольно любопытная.
Сын разорившегося букиниста, он смолоду освоил ремесло маляра, затем, в войну, служил в Индии и во Франции. После войны, найдя малярную работу в Париже, остался там. Франция ему нравилась больше, чем Англия (включая и презираемый им английский язык). В Париже он жил несколько лет, преуспел, накопил денег, посватался к юной француженке. Но в одночасье невеста погибла, попала под омнибус. Чумарь беспробудно запил. Лишь неделю спустя, еще нетвердо ступая, он снова вышел на работу и в то же утро упал с лесов, с четвертого этажа, вдребезги размозжив правую ногу. Страховку, придравшись к чему-то, ему выплатили только шестьдесят фунтов. Он вернулся в Англию, все накопления, пока искал работу, прожил, пытался торговать книгами в рыночных рядах Мидлсекс-стрит, продавать с лотка всякие безделушки и наконец утвердился на социальном дне, став скривером. Перебивался кое-как трудами своих рук, зимой полуголодный, зачастую ночевавший в торчке или прямо на набережной. Когда мы познакомились, его имущество состояло из старого тряпья на нем, малярно-рисовальных средств и пачки книг. Одетый подобно остальной уличной голи, он однако носил воротничок и галстук, чем заметно гордился. Воротничок, годичного употребления или даже постарше, «разъезжался», и Чумарь его беспрестанно реставрировал лоскутками от края рубашки, укоротившейся уже настолько, что она едва заправлялась в брюки. С поврежденной ногой дела обстояли все хуже, грозила ампутация, а на коленях, днями напролет трущихся о камень, образовались громадные, твердые как подметка, мозоли. Перспектива была ясна – впереди ничего, кроме нищеты и смерти в работном доме.