Затишье
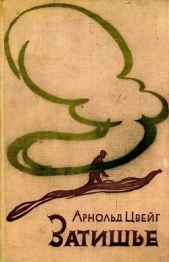
Затишье читать книгу онлайн
Роман «Затишье» рисует обстановку, сложившуюся на русско-германском фронте к моменту заключения перемирия в Брест-Литовске.
В маленьком литовском городке Мервинске, в штабе генерала Лихова царят бездействие и затишье, но война еще не кончилась… При штабе в качестве писаря находится и молодой писатель Вернер Бертин, прошедший годы войны как нестроевой солдат. Помогая своим друзьям коротать томительное время в ожидании заключения мира, Вернер Бертин делится с ними своими воспоминаниями о только что пережитых военных годах. Эпизоды, о которых рассказывает Вернер Бертин, о многом напоминают и о многом заставляют задуматься его слушателей…
Роман построен, как ряд новелл, посвященных отдельным военным событиям, встречам, людям. Но в то же время роман обладает глубоким внутренним единством. Его создает образ основного героя, который проходит перед читателем в процессе своего духовного развития и идейного созревания.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Убирайтесь прочь!
Признаюсь, я был изрядно взбешен, а, кроме того, наши солдаты не без удовольствия наблюдали за интересным происшествием. Я круто повернулся и медленно пошел к моему слегка ухмыляющемуся Отто Рейнгольду. Он ждал меня, стоя с тачкой на почтительном расстоянии. Инцидент исчерпан, думаю я. Рота уж вправит мозги этому молодому командиру. Но нет, инцидент оказался отнюдь не исчерпанным.
— Вернуться! — командует юнец.
Крайне удивленный, я поворачиваюсь и иду назад.
— Разве вам не известно, что вы должны четко и почтительно отойти и бегом, так же почтительно вернуться? — говорит он.
— Кругом, марш! — повторяет лейтенантик, желая проучить меня.
«Ага! — думаю я. — Мальчугана угнетали его учителя, и теперь он хочет отыграться на моих очках, на моей бороде, на моем интеллигентном облике». Никогда еще я так медленно не поворачивался, никогда так деревянно не отходил от человека. Конечно, то был протест, маленький бунт. Лейтенантик это заметил.
— Эй, вы, — взвизгнул он, — немедленно вернуться! Я научу вас пошевеливаться!
На одно мгновение я останавливаюсь в раздумье, а затем с прежним спокойствием возвращаюсь назад, вытягиваюсь перед ним, смотрю ему в глаза и все это — без единого слова.
— Видно, вы изрядный нахал, — говорит растерянно лейтенант.
Вежливо обращаю его внимание на то, что он задерживает меня, занятого работой, и мы стоим так друг против друга, оба бледные, оба изо всех сил сдерживая себя.
Справа и слева от нас зияют старые воронки. Март наполнил их водой. В груди у меня бушует желание своими натруженными руками приподнять за шиворот этого врага и швырнуть его так, чтобы он перекувырнулся в воздухе. Нынче я понимаю, каким наивным я был тогда, каким еще нетронутым корнеплодом, какую ужасную беду способен был накликать на себя. Несколькими месяцами позднее меня удержал бы от подобных порывов Гейн Юргенс, а тень Кристофа Кройзинга призвала бы меня к терпению: ведь и Кройзинг ждал производства в лейтенанты. Глубоко переводя дыхание, я подавил в себе волну ненависти.
Рассказчик прервал себя. От прокуренного воздуха в хорошо протопленной комнате и, вероятно, от воспоминания о волнении тех минут в горле у него пересохло. К счастью, Винфрид добился, чтобы вестовые соблюдали австрийский обычай — подавать к черному кофе свежую воду: вокруг граненого графина стояло три чистых стакана. Пока Бертин наливал себе воду и жадно осушал стакан, напряженное сочувствие слушателей нашло выход.
— Так он и сказал: вы врете? — спросил фельдфебель Понт.
Бертин кивнул.
— Черт знает что! — негодующе воскликнул Понт.
— Ваше сравнение с школьным учителем и учеником выпускного класса, разумеется, вполне правильно, — сказал Познанский. — Несколько шире я сформулировал бы это как ненависть к духовному началу. Мозгофобами назвал кто-то подобных субъектов. Надо надеяться, что после войны мы разделаемся с людьми такого толка, пусть и не так, как вам подсказывал порыв ненависти и справедливого гнева.
Винфрид посасывал сигарету и молчал. Бертин, конечно, заметил это. Но Понту хотелось дополнить свои «мысли вслух».
— В этаком гимназистике говорит, помимо всего прочего, высокомерие и вместе с тем страх перед рабочим людом. Высокомерие, потому что за время учения пальцы его бывали измазаны разве что чернилами, руки же рабочего можно узнать по въевшейся в них известке, штукатурке и грязи, это же неизбежные атрибуты его деятельности и признаки подчиненного класса; ну, а страх — перед мускулистыми кулаками и плечами.
— Перед теми самыми кулаками и плечами, которые с февраля месяца вовсю разгулялись в России, — закончил Винфрид. — С той лишь удивительной особенностью, что там гимназисты идут рука об руку с пролетариями.
— Правильно! — воскликнул Бертин, освежив горло холодной водой. — А наши пролетарии вступились за меня. Офицер просчитался. Со всех концов дороги явственно доносились ропот и возгласы:
— Целый спектакль разыграл!
— Нечего глумиться над людьми! Мы при исполнении своих обязанностей!
— Это солдат нестроевой службы! — крикнул Карл Лебейде с присущим ему достоинством берлинского трактирщика. — Он не умеет прыгать, как блоха!
Грозный смех пробегает по толпе рабочих; кто стоит на коленях, кто орудует длинным ломом. Мы превратились вдруг в рабочих, и одного из них — меня — оскорбляет наглый юнец интеллигентик. У паренька нет при себе револьвера, и совершенно ясно, что мы можем сделать из него котлету, так что дурень Бауде при всем желании не спасет его. Чего в самом деле стоит кухонный нож Бауде против сильного, снизу вверх удара лопатой! Дорога Флаба — Муарей, видно, не столь пригодна для солдатской муштры, как, скажем, казарменный двор где-нибудь в Мерзебурге или Ганновере. Оставалось одно — отступить по возможности с достоинством. Юный лейтенант делает вид, что все эти выкрики и общий ропот к нему не относятся.
— Где находится штаб роты? — отрывисто спрашивает он у бедного Бауде. Тот, подавленный, показывает вниз.
— Отлично, — говорит сержанту офицерик. — Кругом марш! — Это относится ко мне, и я делаю «кругом, марш». Круто, очень выразительно поворачиваюсь, показываю ему спину, удлиненную шинелью, полы которой, чтобы не мешали во время работы, спереди заткнуты за пояс, и отхожу. Сердце у меня, разумеется, неистово бьется, я до глубины души возмущен своим положением раба, не имеющим ничего общего с правами и обязанностями солдата. Пусть он жалуется на меня, сколько ему угодно. Со мной пятьдесят человек, а несчастному глупцу Бауде обер-фейерверкеры хорошенько намылят голову за то, что мы, понятно, не выполним сегодня своей дневной нормы. Узкая спина лейтенанта с развевающейся на ней, словно пелерина, шинелью удаляется в направлении лагеря. На всем пути лейтенанта сопровождает недобрый смех. Люди работают спустя рукава и с сердцем швыряют на дорогу грязную жижу: в наши обязанности входит рытье канав по обе стороны шоссе, для того чтобы на территории парка не задерживалась влага. Дело в том, что снаряды, хотя они и хранятся на бревнах и дощатых настилах, не выносят сырости, а тогда как раз стали поступать первые партии с железными взрывателями: уже начала ощущаться нехватка меди и латуни. А железным взрывателям достаточно двух-трех недель, и они начинают ржаветь.
Сержант Бауде пытается извиниться передо мной; в армии это делается в форме упреков. Неужели, говорит он, так уж трудно было немножко быстрее поворачиваться, и что мне стоило отдать честь господину лейтенанту? Вместо ответа я обратился к моим товарищам, которые мгновенно побросали работу и окружили нас. Помнят ли они, спросил я, наш служебный устав? Пятнадцать, даже двадцать человек совершенно точно помнили, что отдавать честь во время работы нам запрещено. Я холодно говорю Бауде:
— Что ж, пусть господин лейтенант подаст жалобу, тогда и мы рискнем кое-что сказать.
— Станет этот юнец подавать жалобу! Как бы не так! — с классическим спокойствием произносит умудренный жизнью Карл Лебейде. — Ему бы только живым выскочить из нашей мясорубки и спрятаться дома, у мамочки под крылышком! — Обращаясь куда-то в пространство, он добавил: — Досадно, когда человек попадает на фронт, не зная своих обязанностей.
«Так вот он каков, — думаю я, направляясь вместе с Рейнгольдом назад, к месту, где мы берем дерн и где мы теперь усаживаемся, чтобы как следует отдохнуть. — Так вот он каков, будущий ротный командир. Ну и хороша же поросль, которую шлют нынче на фронт! Этак у кого хочешь пропадет охота воевать. Воображаю, что за удовольствие для пехотинцев идти в окопы с таким офицером! Могу себе представить, что он, конечно, совсем другим языком заговорит, когда придется одному, ночью, бежать за своей ротой по изрытому воронками полю, скользкому, размытому дождями, вязкому, какие чаще всего попадаются в рту пору года. Как легко в полном мраке получить осколок шрапнели в плечо или плюхнуться в яму и утонуть, если вблизи не окажется солдат, которые из товарищеских чувств и по доброте душевной вытащат господина лейтенанта из топкой грязи».






















