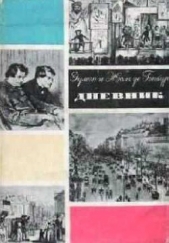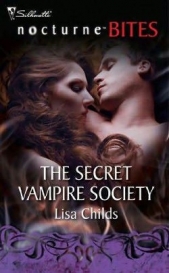Шарль Демайи

Шарль Демайи читать книгу онлайн
«…В этой комнате, которая была конторой редакции газеты „Скандал“, сидело пять человек. У одного были белокурые волосы, небольшой лоб, черные брови и глаза, небольшой нос прямой и мясистый, завитые белокурые усы, маленький рот, чувственные губы и пухлое лицо, обличавшее в молодом человеке наклонность к полноте. Другой был молодой человек лет тридцати четырех, маленький, коренастый, с плечами Венсенского охотника, с налитыми кровью глазами, рыжей бородою и передергивающимся лицом, напоминавший горбуна. Он имел вид хищника мелкой породы…»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Извините… Очень часто.
– Перечтите сон Сципиона… Вы рядом с африканцем, вы видите землю под вами, как точку в пространстве, и время для вас составляет момент в вечности… Вы парите в воздухе: вас окружает концерт гармоний; пусть разные Арого унижают античное небо, в нем всегда будет слышна музыка миров под лобзанием Бога, движение сфер, и бесконечный звук течения звезд… А что может быть возвышеннее рая нравственного порядка? Это Пантеон света и спокойствия, это высокое жилище счастливой вечности, где отведены места тем, кто охраняет, увеличивает отечество и помогает ему… Если бы от меня зависело дать название «сну Сципиона», я бы окрестил его «Экстазом человеческого сознания»… Какой могучий полет в бесконечность!.. Не кажется ли вам, что вы приближаетесь в Провидению, когда книга говорит вам о взгляде правителя миров, радующагося собраниям и обществам людей, соединенных на всей земле правом? Какой великий жизненный урок!.. Ах, тут все есть! Прочтите хотя бы это место: «Для принципа нет начала»… Это принцип Цицерона, созданный им самим, и из которого все вытекает, это колыбель, заря, возвещение Слова св. Иоанна: «В начале бе Слово, и Слово»…
Раздалась в соседнем кабинете песня, и прервала речь Ремонвиля.
– Да это голос Кутюра, – сказал Демальи.
– В самом деле, правда… тут вся их компания, – произнес Буароже, – ой и меня приглашали… Они празднуют новоселье маленькой газеты объявлений…
– Уйдем! – сказал Ремонвиль.
Ремонвиль и Демальи катились вокруг озера Булонского леса, в открытой коляске. Фонари коляски бросали мимоездом свой свет на темную чащу. Отражение света в озере дрожало тут и там между деревьями. Ночь зажигала звезды одну за другой над черным лесом. Лошадь бежала рысцой.
– Что касается меня, мой милый, я говорю вам, – продолжал де-Ремонвиль, – что нравственная вершина человечества – это Антонины… прекрасный тип гуманности являет собою Марк Аврелий. Я нахожу в нем то, что древние называли добродетелью в её высшей степени искренности и простоты при блеске и характерах, которых я не у кого более не нахожу… Он благоговеет перед идеей добродетели и справедливости, как художник перед идеалом. Стоицизм, это прекрасное учение, самая бескорыстная и самая благородная мораль, когда человек действительно возвышается сам собою… Как укрепляюще действуют произведения Марка Аврелия!.. Он человеческий Бог мудрости… и однако, он – Цезарь, триумфатор, выше всех, имеющий под ногами почти всю карту Птоломея, стоящей на высоте, где вино всемогущества бросается в голову!
Изо всех новых друзей Демальи, де-Ремонвиль более всего сходился с ним, с его идеями, и Шарль всего более чувствовал к нему нравственных симпатий.
Ремонвил был ни велик, ни мал, скорее даже мал ростом. Голова обличала в нем человека: голова крепкая и красивая, молодая и могучая. Волосы у него были белокурые, глаза и брови черные. Середину лба прорезывала вертикальная, прямая линия, обозначающая сильную волю. Глубокие глаза горели темным огнем, под орлиным носом вились небольшие испанские усики. Линия подбородка казалась мраморной, цвет лица был бронзовый. Во всем этом лице было что-то орлиное и похожее на Аполлона; в нем были кровь и взгляд красивых, хищных итальянцев XVI века, или молодого императора старого Рима; тип Челлини и Нерона в двадцать лет, достойный кисти Веласкеса.
Созданный и душой, и телом для иного времени, чувствующий себя неловко в черной одежде, Ремонвиль чувствовал себя неловко и в своей сфере. Ни его век, ни его отечество не подходили ему, еще менее подходило ему его ремесло. Будучи театральным критиком газеты «Temps», он каждую неделю поворачивал этот жернов возвещения о пьесах, драмах, водевилях, клоунах, новых звездах, танцовщицах, об ученом слоне, о модной актрисе, об успехе, о вздутой славе, о театральных событиях недели. Он исполнял этот ужасный новейший закон журнализма, заставляющего заниматься низшими задачами и губительной работой людей, которые, будучи свободными и употребляя свои силы только по призванию, могли бы дать Франции какое-нибудь произведение, вместо обычных отчетов публике. Ремонвиль подчинился этой роли; но он возвысил ее, внеся в нее свою личность, свои вкусы, свое знание и талант. Его фельетоны были оторванные листки прекрасной книги, без продолжения, лучшей школой относительно театра и водевиля. Если он входил в Пале-Рояль, то именно с песнью лягушек Аристофана. Если он видел Бушарди, он рассказывал вам о Байроне. Таким образом набрасывая на все плащ Музы, напоминая о чем-нибудь бессмертном по поводу каламбура, этот редкий критик, часто тратящий в своем фельетоне более мыслей, чем в целой пяти-актной пьесе, заставлял говорить о себе глупцов, что у него нет воображения, простаков – что он не рассказывает интриг, и своих друзей – что он никогда не напишет книги. Он мало беспокоился об этом, и еще менее о своем фельетоне, сделанном на скорую руку. Набросав на бумаге свои двенадцать столбцов, в субботу утром, он тотчас же забывал эти двенадцать столбцов то рифмованных, то нежных и глубоких, как псалом, то полных жизни, огня и страсти современного очевидца, когда по поводу исторической драмы он мог добраться до истории и порыться между мертвецами Сен-Симона, он не говорил более о своих статьях, это уже было похороненное дело и он довольно грубо обрывал комплименты по их поводу.
Мысль критика парила над его ремеслом. бессмертные произведения, самые нежные мелодии человеческой мысли, самые поэтические песни народной души, самые сильные драмы страстей, самые тонкие улыбки ума были его пищей и его счастьем. Мысль его углублялась в Данте, как в поток света, она наслаждалась священными книгами Индии, укреплялась в древних философах, обнимала Гомера и древних богов. Кроме того, мысль Ремонвиля питалась еще и другим насущным хлебом, имела другие занятия и радости столь же благородные и дорогие. Ремонвиль любил искусство. Прекрасное было его религией и совестью. Хорошее полотно, красивый мрамор, красивая линия, весь этот материальный мир, подчиненный воле и гению человека, составляли его величайшее наслаждение. Колорит Рембрандта, солнечное освещение Клода Лорзна, улыбка Монна-Лиза, «Страшный суд» Микель Анджело, Рубенс, Веронез, художники примитивные и декаденты, Мемлинг и Лонги, граверы, начиная Марком Антонием и кончая Гойа, рисунки, эскизы картин, сангины Ватто и синие картоны Прюдона, – вот что составляло его общество, его близких, его очарование. Если его любовь, даже восхищение его относились к настоящим векам, все же его поклонение и обожание всецело принадлежало прошлым. Он постоянно возвращался как бы уносимый потоком стольких прекрасных произведений к бессмертному источнику: греческому искусству. Он преклонялся перед этими мраморами, в которых светилась божественность, перед метопами Парфенона, перед этими лошадьми, всадниками, торсами, полный священного трепета и отчаиваясь подыскать когда-либо слова настолько божественные, чтоб не довольствоваться одними фразами! С какими желаниями, с каким восторгом несся он из своей страны, из своего времени к этой земле Парфенона, к земле Фидия! Его отечество, его алтарь, его грезы, иллюзии, его душа, – все стремилось к ним; называя Грецию, он казалось называл вам свою мать! Он жалел о всем, хвалил все в этой небольшой великой нации, с городами, более населенными статуями чем гражданами, с законами, смягченными Фриной. Что бы ни говорил он об Антонинах, все же ему хотелось, чтобы человечество воротилось ко времени процветания Греции, а не Рима, как к своей истинной зрелости. Аристотель и Платон, по его мнению, сделали достаточно великими психологию и науку. Сократ дал сильный толчок исследованию сродства душ. Геродот и Фукидид сказали последнее слово истории, Эсхил, Софокл и Эврипид – последнее слово человеческих страстей; Аристофан был лучшим выразителем смеха; Афины представляли идеал свободы и греческой цивилизации. И несмотря на все, этот поклонник греческого был католик; но он был католик из ненависти в религии иконоборцев, католик в благодарность за век Льва X; католик из ненависти к северным расам, которых он ненавидел со всем пылом южного племени, из ненависти к Германии, которую он называл Китаем Европы.