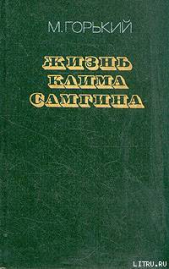Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть третья

Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть третья читать книгу онлайн
15 марта 1925 года М. Горький писал С. Цвейгу: «В настоящее время я пишу о тех русских людях, которые, как никто иной, умеют выдумать свою жизнь, выдумать самих себя» (Перевод с французского. Архив А. М. Горького). «...Очень поглощен работой над романом, который пишу и в котором хочу изобразить тридцать лет жизни русской интеллигенции, – писал М. Горький ему же 14 мая 1925 года. – Эта кропотливая и трудная работа страстно увлекает меня» (Перевод с французского. Архив А. М. Горького).
«...Пишу нечто «прощальное», некий роман-хронику сорока лет русской жизни. Большая – измеряя фунтами – книга будет, и сидеть мне над нею года полтора. Все наши «ходынки» хочу изобразить, все гекатомбы, принесенные нами в жертву истории за годы с конца 80-х и до 18-го» (Архив А. М. Горького).
Высказывания М. Горького о «Жизни Клима Самгина» имеются в его письмах к писателю С. Н. Сергееву-Ценскому, относящихся к 1927 году, когда первая часть романа только что вышла в свет. «В сущности, – писал М. Горький, – эта книга о невольниках жизни, о бунтаре поневоле...» (из письма от 16 августа. Архив А. М. Горького).
И немного позднее:
«Вы, конечно, верно поняли: Самгин – не герой» (из письма от 8 сентября 1927 года. Архив А. М. Горького).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«Ее служба в охранке – это, конечно, вынуждено, это насилие над нею. Жандармы всем предлагают служить у них, предлагали и мне».
Он очень живо, всей кожей вспомнил Никонову, сравнил ее с Дуняшей и нашел, что та была удобнее, а эта – лучше всех знает искусство наслаждения телом.
«Я несколько испорчен», – сознался он.
Признавая себя человеком чувственным, он, в минуты полной откровенности с самим собой, подозревал даже, что у него немало холодного полового любопытства. Это нужно было как-то объяснить, и он убеждал себя, что это все-таки чистоплотнее, интеллектуальней животно-обнаженного тяготения к самке. В эту ночь Самгин нашел иное, менее фальшивое и более грустное объяснение.
«Возраст охлаждает чувство. Я слишком много истратил сил на борьбу против чужих мыслей, против шаблонов», – думал он, зажигая спичку, чтоб закурить новую папиросу. Последнее время он все чаще замечал, что почти каждая его мысль имеет свою тень, свое эхо, но и та и другое как будто враждебны ему. Так случилось и в этот раз.
«Думать о мыслях легче и проще, чем о фактах».
Эта неприятная поправка требовала объяснения, – Самгин тотчас нашел его:
«Таково свойство интеллигенции вообще. Вернее – это качество интеллекта... не омраченного, не подавленного впечатлениями бытия».
А вместе с этим он думал:
«Устал я и бездарно путаюсь в каких-то мелочах. Какое значение для меня могут иметь случайные встречи с пьяным офицером, Дуняшей, Мариной?»
Монументальная фигура Марины круто изменила ход его размышлений:
«Неужели эта баба религиозна? Не верю, чтоб такое мощное тело искренно нуждалось в боге».
Явилась настоятельная потребность ограничить Марину. Он долго, сосредоточенно рассматривал ее, сравнивал с петербургской девушкой и вдруг вспомнил героя Лескова Ахилла Десницына и его рев:
«Уязвлен, уязвлен...»
Неуместное воспоминание раздражило Самгина.
«В старости она будет такая же страшная, как Анфимьевна... И жалкая такая же...»
Этим он не уничтожил хозяйку магазина церковной. утвари. В блеске золота и серебра, среди множества подсвечников, кадил и купелей, как будто ожил древний золотоглазый идол. И около нее – херувимоподобный отрок, похожий на Диомидова, как его сын.
«Самый странный и нелепый маскарад изо всех, какие видел я», – попытался успокоить себя Самгин, но в памяти истерически закричал Диомидов:
«Ничему не верите, а – чего ради не верите? Боитесь верить, страха ради не верите! Осмеяли всё, оголились, оборвались, как пьяные нищие...»
Этот ночной парад воспоминаний превратился в тяжелый кошмар. С бурной быстротой, возможной только в сновидениях, Самгин увидел себя на безлюдной, избитой дороге среди двух рядов старых берез, – рядом с ним шагал еще один Клим Самгин. День был солнечный, солнце жарко грело спину, но ни сам Клим, ни двойник его, ни деревья не имели тени, и это было очень тревожно. Двойник молчал, толкая Самгина плечом в ямы и рытвины дороги, толкая на деревья, – он так мешал идти, что Клим тоже толкнул его; тогда он свалился под ноги Клима, обнял их и дико закричал. Чувствуя, что он тоже падает, Самгин схватил спутника, поднял его и почувствовал, что он, как тень, не имеет веса. Но он был одет совершенно так же, как настоящий, живой Самгин и поэтому должен, должен был иметь какой-нибудь вес! Самгин высоко поднял его и швырнул прочь, на землю, – он разбился на куски, и тотчас вокруг Самгина размножились десятки фигур, совершенно подобных ему; они окружили его, стремительно побежали вместе с ним, и хотя все были невесомы, проницаемы, как тени, но страшно теснили его, толкали, сбивая с дороги, гнали вперед, – их становилось все больше, все они были горячие, и Самгин задыхался в их безмолвной, бесшумной толпе. Он отбрасывал их от себя, мял, разрывал руками, люди лопались в его руках, как мыльные пузыри; на секунду Самгин видел себя победителем, а в следующую – двойники его бесчисленно увеличивались, снова окружали его и гнали по пространству, лишенному теней, к дымчатому небу; оно опиралось на землю плотной, темносиней массой облаков, а в центре их пылало другое солнце, без лучей, огромное, неправильной, сплющенной формы, похожее на жерло печи, – на этом солнце прыгали черненькие шарики.
Когда назойливый стук в дверь разбудил Самгина, черные шарики все еще мелькали в глазах его, комнату наполнял холодный, невыносимо яркий свет зимнего дня, – света было так много, что он как будто расширил окно и раздвинул стены. Накинув одеяло на плечи, Самгин открыл дверь и, в ответ на приветствие Дуняши, сказал:
– Кажется, я заболеваю...
– Я стучу уже третий раз... Что с тобой?
– Проснулся в испарине.
Она опрашивала, не позвать ли доктора; Самгин отвечал ей отрывисто, небрежно, как привык говорить с Варварой. Он чувствовал себя физически измятым борьбой против толпы своих двойников, у него тупо болела поясница и ныли мускулы ног, как будто он в самом деле долго бежал. Дуняша ушла за аспирином, а он подошел к зеркалу и долго рассматривал в нем почти незнакомое, сухое, длинное лицо с желтоватой кожей, с мутными глазами, – в них застыло нехорошее, неопределенное выражение не то растерянности, не то испуга. Пощупал пальцами седоватые волосы на висках, потрогал тени в глазницах, прочитал вырезанное алмазом на стекле двустишие:
«Инокентий пишется с одним н. А может быть – с двумя? Все равно – пошлость».
За окном ослепительно сверкали миллионы снежных искр, где-то близко ухала и гремела музыка военного оркестра, туда шли и ехали обыватели, бежали мальчишки, обгоняя друг друга, и все это было чуждо, ненужно, не нужна была и Дуняша. Она влетела в комнату птицей, заставила его принять аспирин, натаскала из своей комнаты закусок, вина, конфет, цветов, красиво убрала стол и, сидя против Самгина, в пестром кимоно, покачивая туго причесанной головой, передергивая плечами, говорила вполголоса очень бойко, с неожиданными и забавными интонациями:
– Сегодня – пою! Ой, Клим, страшно! Ты придешь? Ты – речи народу говорил? Это тоже страшно? Это должно быть страшнее, чем петь! Я ног под собою не слышу, выходя на публику, холод в спине, под ложечкой – тоска! Глаза, глаза, глаза, – говорила она, тыкая пальцем в воздух. – Женщины – злые, кажется, что они проклинают меня, ждут, чтоб я сорвала голос, запела петухом, – это они потому, что каждый мужчина хочет изнасиловать меня, а им – завидно!
Она тихонько, нервозно засмеялась:
– Глупости говорю?
– Глупости, – подтвердил Самгин, глядя на ее вызывающе пышный бюст и жадные губы.
– Трудно поумнеть, – вздохнула Дуняша. – Раньше, хористкой, я была умнее, честное слово! Это я от мужа поглупела. Невозможный! Ему скажешь три слова, а он тебе – триста сорок! Один раз, ночью, до того заговорил. что я его по-матерному обругала...
Покраснев, Дуняша расхохоталась так заразительно, что Самгин. скупой на смех, тоже немножко посмеялся, представив, как, должно быть, изумлен был муж ее.
– Нет, ей-богу, ты подумай, – лежит мужчина в постели с женой и упрекает ее, зачем она французской революцией не интересуется! Там была какая-то мадам, которая интересовалась, так ей за это голову отрубили, – хорошенькая карьера, а? Тогда такая парижская мода была – головы рубить, а он все их сосчитал и рассказывает, рассказывает... Мне казалось, что он меня хочет запугать этой... головорубкой, как ее?
– Гильотина, – подсказал Клим.
– И выходило у него так, как будто революция началась потому, что француженки вели себя нескромно.
Швырнув на стол салфетку, она вскочила на ноги и, склонив голову на правое плечо, спрятав руки за спиною, шагая солдатским шагом и пофыркивая носом, заговорила тягучим, печальным голосом:
– «Теперь тебе должно быть ясно, насколько Мария Антуанетта способствовала гибели монархии...»