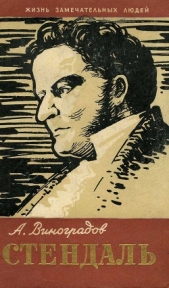Три певца своей жизни (Казанова, Стендаль, Толстой)

Три певца своей жизни (Казанова, Стендаль, Толстой) читать книгу онлайн
`Казанова, Стендаль, Толстой - писал С. Цвейг, знакомя читателей с этой книгой, - я знаю, сопоставление этих трех имен звучит скорее неожиданно, чем убедительно, и трудно себе представить плоскость, где беспутный, аморальный жулик… Казанова встречается стаким героическим поборником нравственности и совершенным изобразителем, как Толстой. В действительности же… эти три имени символизируют три ступени - одну выше другой… в пределах одной и той же творческой функции: самоизображения`.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Благодаря такой умелой и изощренной технике самосовершенствования Стендаль как интеллектуально, так и эмоционально достигает необычной степени чуткости. Нужно вернуться в мировой литературе на десятилетия вспять, чтобы найти другого писателя с такой тонкой восприимчивостью и одновременно с таким острым умом, такую ранимую, нервную чувствительность в сочетании с кристально-холодным и кристально-чистым интеллектом. Правда, нельзя безнаказанно обладать такими нежными нервными окончаниями, такими чуткими и сладострастными под тонким слоем кожи; утонченность всегда означает легкую уязвимость, и то, что для искусства является благом, почти всегда обращается для художника в бедствие. Как страждет эта сверхутонченная натура, Стендаль, среди окружающего мира, как угрюм он, как чужд своей слезливой патетической эпохе! Такого рода интеллектуальное чувство такта должно оскорбляться каждым проявлением духовной ограниченности, такую романтическую душу кошмаром гнетет толстокожесть и моральная тупость среды. Как принцесса в сказке чувствует горошину под сотней перин и одеял, так и Стендаль болезненно воспринимает каждое неискреннее слово, каждый фальшивый жест. Все лжеромантическое, все грубо преувеличенное и трусливо неопределенное действует на его изощренный инстинкт, как холодная вода на больной зуб. Ибо его гипертрофированная и вместе с тем прозорливая страсть ко всему искреннему и естественному, его интеллектуальный опыт страдает и от преувеличенности и от вялости чувств другого человека: "Mes betes d'aversion ce sont le vulgaire et l'affecte" [140], - и от пошлости и от напыщенности. Одна фраза, переслащенная чувством или вспучившаяся на дрожжах патетики, может испортить ему удовольствие от всей книги, один неудачный жест - отравить любое любовное приключение. Как-то он в волнении наблюдает одну из наполеоновских битв: трагическая суматоха, пронизанная грохотом орудий, озаренная огненным отблеском Неожиданно заигравшего в облаках кровавого заката, - все это действует на его артистическую душу опьяняюще. Он стоит, содрогаясь, разделяя общий восторг и ужас. И тут, по несчастию, одного из генералов рядом с ним осеняет мысль отметить это потрясающее зрелище каким-нибудь значительным словом. "Битва гигантов!" - говорит он, довольный, своему соседу, и это неуклюже-патетическое определение разом лишает Стендаля способности что-либо чувствовать. Он торопливо уходит, огорченный, разочарованный, ограбленный, проклиная остолопа-генерала; и всякий раз, как его непомерно чувствительное нёбо приметит малейший привкус фразерства или фальши в изъяснении чужого чувства, его собственное чувство такта возмущается. Неясность мышления, многословие, всякое афиширование, выставление напоказ своих ощущений вызывают у этого гения чувствительности тошноту, - поэтому так мало удовольствия доставляет ему искусство современников, которое принимает чересчур уж слащаво-романтические (Шатобриан) или псевдогероические (Виктор Гюго) позы; по той же причине не выносит он большинства людей. Но эта чрезмерная сверхчувствительность обращается в той же степени и против него самого. Едва заметив у себя малейшее отклонение от правды чувства, ненужное crescendo, сентиментальную приподнятость тона или же трусливую расплывчатость и нечестность,- он сам себя бьет по пальцам, как строгий учитель. Его вечно бодрствующий и неумолимый разум крадется за ним по пятам в его самых затаенных мечтаниях и беспощадно срывает с него все покровы стыдливости. Редкий художник столь основательно воспитывал в себе честность, редкий наблюдатель своей души заглядывал столь суровым взором в самые глухие ее тайники и закоулки.
Зная себя так хорошо, Стендаль лучше всякого другого сознает, что эта чрезмерная нервная и интеллектуальная чувствительность - его гений, его достоинство и вместе с тем угроза для него. "Ce que ne fait qu'effleurer les autres, me blesse jusqu'au sang": то, что лишь слегка затрагивает других, в кровь ранит его, чрезмерно восприимчивого. И поэтому Стендаль с юных лет инстинктивно воспринимает этих "других", "les autres", как полярную противоположность своему "я", как представителей чуждой душевной расы, с которыми у него нет общего языка и какой-либо возможности столковаться. Эту "разнородность" с ранних лет почувствовал на себе в Гренобле маленький, неуклюжий, неприветливый от застенчивости мальчик, глядя, как шумно веселятся его беззаботные товарищи по школе; еще болезненнее испытал это на себе впоследствии новоиспеченный унтер-офицер Анри Бейль в Италии, когда, мучительно завидуя и не умея подражать другим офицерам, он изумлялся их способности укрощать миланских дам и многозначительно, с сознанием собственного достоинства, греметь саблею. Но в то время он еще стыдился своей изнеженности, молчаливости, способности краснеть, своей застенчивости и чувствительности, считая их недостатком, досадным изъяном для мужчины. Годами пытался он - смехотворно и без всякого результата! - пересилить свою природу, подражать шумной и хвастливой черни и пускался на глупейшие фанфаронады, чтобы только казаться похожим на этих бойких парней и завоевать их расположение. Лишь постепенно, с мучительным трудом находит он в своей неизлечимой отчужденности какое-то меланхолическое очарование. Не зная успеха у женщин из-за своей робости и неуместных припадков целомудрия, он начинает со свойственными ему вниманием и проницательностью выпытывать у самого себя, в чем причины его неудач; так пробуждается в нем психолог. Почувствовав к самому себе любопытство, он начинает открывать самого себя. Прежде всего Стендаль устанавливает, что он не такой, как другие, - тоньше, чувствительнее, чутче. Никто кругом не чувствует так страстно, никто так четко не мыслит, ни в ком нет этого странного противоречия: способности воспринимать все до тонкости и наряду с этим полной неспособности чего-либо добиться на деле. Несомненно, должны существовать и другие люди этой замечательной разновидности, именуемой "etre superieur" [141], иначе как мог бы он понимать Монтеня, острый, глубокий ум, чуждый всему плоскому и грубому, если бы не был той же породы; как мог бы он чувствовать Моцарта, если бы не обладал тою же душевною легкостью? И вот в тридцать лет Стендаль впервые начинает подозревать, что он вовсе не неудачный образчик человеческой породы, а скорее особый ее представитель, принадлежащий, может быть, к редкой и благородной расе тех "etres privilegies" [142], которые встречаются во всех странах, у всех племен и народов, вкрапленные в них, как благородные камни в простую породу. Он чувствует себя их соотечественником (родство с французами он сбрасывает, как ставшее чересчур тесным платье), сыном другой, незримой родины и братом людей с тончайшим строением души и с умными нервами - тех, что никогда не собираются в неуклюжие толпы или деловые шайки и лишь время от времени посылают вестника в бесконечность. Для них одних, для "happy few" [143], для проникновенных знатоков с острым взором и тонким слухом, которые прочтут и неподчеркнутое и инстинктом сердца понимают самый мимолетный жест и взгляд, - для них пишет он, через головы современников, свои книги, им одним открывает он тайнопись своего чувства. С тех пор, как он научился презрению, какое ему дело до шумной, громкоголосой черни, которой в глаза бросаются только яркие, грубо намалеванные буквы плакатов, которой по вкусу только жирное и пересоленное? "Que m' importent les autres?" - "Какое мне дело до других?" - гордо говорит его Жюльен, но это крик его собственного сердца. Нет, не стыдиться того, что не имеешь успеха в таком подлом и пошлом мире, у этих неповоротливых тяжелодумов: "l'egalite est la grande loi pour plaire" [144], чтобы примениться к этому сброду, нужно мериться с ним одной меркой, но, слава богу, ты "etre superieur", "etre extraordinaire" [145], ты единственный, особенный индивид, обособленная личность, а не баран из стада. Все внешние унижения - медленное продвижение по службе, неудачи у женщин, полнейший неуспех в литературе - Стендаль после этого открытия воспринимает с какой-то изощренной радостью, как признак своего превосходства. Прежнее чувство неполноценности победно переходит в надменность тонкую, сдержанную и заметную только посвященным, величественно-безмятежную стендалевскую надменность. Он сознательно отдаляется теперь все больше и больше от тесного общения с людьми и занят только одной мыслью: "de travailler son caractere" - выработать определенность характера, свой особый внутренний облик. Только своеобразие имеет ценность в этом американизированном, построенном по тейлоровской системе мире: "il n'y a pas d'interessant que ce qui est un peu extraordinaire" [146], - так будем своеобразны, укрепим в себе корень странности! Ни один голландец, из числа помешанных на тюльпанах, не лелеял бережнее редкой, путем скрещивания полученной породы, чем Стендаль свое своеобразие и свою двойственность; он обрабатывает их своей особой духовной эссенцией, которую называет "бейлизмом"; правда, вся эта философия не что иное, как искусство сохранять в неприкосновенности Анри Бейля в Анри Бейле. Он отгораживается колючей проволокой странностей и мистификацией, охраняет сокровищницу своего "я" с фанатизмом скряги и едва-едва позволяет кому-либо из друзей бросить беглый взор через зарешеченное узкое окно во внутренние свои покои. Только для того, чтобы прочнее уединиться от всех других, он вступает в сознательную оппозицию своей эпохе и, как его Жюльен, живет "en guerre avec toute la societe" [147]. Будучи писателем, он презирает литературную форму и объявляет свод гражданских узаконений образцом "artis poetiсае" [148]; будучи солдатом, глумится над войной, будучи политиком, иронически относится к истории, будучи французом, издевается над французами; везде и всюду ограждается он от людей окопами и колючей проволокой, только чтобы они не подошли к нему слишком близко. Само собою понятно, что из-за этого ему приходится отказаться от всякой карьеры, от успеха на военном, дипломатическом, литературном поприще, но это только усиливает его гордость; "я не баран из стада, стало быть, я ничто"; да, только бы быть ничем для этих плебейских душ, остаться ничтожным в глазах этих ничтожеств. Он счастлив, что не подходит ни к каким их классам, расам, сословиям, отечествам; он в восторге, что может на собственных своих двух ногах двуногим парадоксом шествовать собственным путем, вместо того чтобы широкой дорогой удачи брести среди этого подъяремного рабочего скота. Лучше отстать, лучше стоять в стороне одному, только бы остаться свободным. И Стендаль гениально умел оставаться свободным, освобождаться от всякого принуждения и влияния. Если из нужды ему приходится принять какую-нибудь должность, надеть форму, то он отдает только минимум, необходимый для того, чтобы удержаться у общественного корыта, и ни на грош больше. На всякой должности, во всяком деле, чем бы он ни занимался, умеет он, действуя ловкостью и притворством, остаться совершенно свободным и независимым. Облачит его кузен Дарю в гусарскую куртку - от этого он отнюдь не чувствует себя солдатом; пишет он роман - это не значит, что он причислил себя к профессиональным литераторам; если ему приходится надеть шитый мундир дипломата, он в служебные часы сажает за письменный стол некоего г-на Бейля, у которого со Стендалем только и есть общего, что скелет, кожа да круглый живот. Но ни искусству, ни науке, ни тем менее службе не отдает он и частицы подлинной своей сущности; и действительно, ни один из его товарищей по службе за всю жизнь не заподозрил, что проделывает строевые упражнения или строчит акты рядом с величайшим писателем Франции. И даже его знаменитые собратья по литературе (кроме Бальзака) видели в нем всего только занимательного собеседника, отставного офицера, время от времени совершающего воскресные экскурсии в их владения. Из всех его современников, может быть, один только Шопенгауэр жил и творил в таком же абсолютном духовном уединении [43], в такой же разобщенности с людьми и с таким же внешним неуспехом, такой же гордый своей обособленностью, как его великий собрат in psychologics Стендаль.