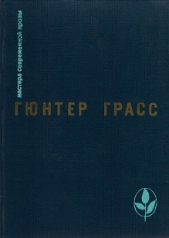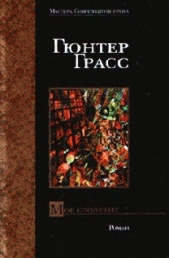Собачьи годы

Собачьи годы читать книгу онлайн
Роман «Собачьи годы» – одно из центральных произведений в творчестве крупнейшего немецкого писателя нашего времени, лауреата Нобелевской премии 1999 года Гюнтера Грасса (р.1927).
В романе история пса Принца тесно переплетается с судьбой германского народа в годы фашизма. Пес «творит историю»: от имени «немецкого населения немецкого города Данцига» его дарят Гитлеру.
«Собачий» мотив звучит в сопровождении трагически гротескных аккордов бессмысленной гибели немцев в последние дни войны. Выясняется, что фюрер завещал своим верноподданным собаку. Гитлер и его пес как бы меняются местами, и получается, что немцы проливают кровь и гибнут ради пса. Вот откуда название романа: годы нацистской диктатуры предстают как «собачьи годы», жизнь немцев – как собачья жизнь.
Эта книга – широкоформатное полотно, повествующее о судьбах Германии и немецкого народа в XX веке, полное иронии и сарказма, содержащее многочисленные исторические экскурсы и философские отступления.
(текст представлен по изданию журнала «Иностранная литература»)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все это и много чего еще тащится по воде. Что вообще может нести в своих водах такая река, как Висла? Да все, что идет прахом – дерево и стекло, карандаши, разные написания имени Брауксель, стулья, косточки, но и заходы, закаты. Все, что забыто и быльем поросло, вдруг всплывает в водах Вислы спиной или брюхом вверх и влачится в потоке воспоминаний: вот и Адальберт пришел. Он приходит пешим. И тут его сшибает огромным суком. Но Свянтополк все равно примет крещение. А что станется с дочерьми Мествина? Вот одна, босая, бросилась наутек – убежит или нет? Кто возьмет ее с собой? Богатырь Милигедо со своей чугунной палицей? Или огненно-рыжий Перкунас? А может, бледный Пеколс, тот, что все время глядит исподлобья? Отрок Потримпс только посмеивается и жует свои пшеничные колоски. Дубы уже срублены. Еще один скрежет зубовный – и вот уже дочка князя Кестутиса идет в монастырь. Двенадцать рыцарей без голов, двенадцать монахинь без голов, зачем они пляшут на мельнице? Мельница крутится, мельница вертится, монашки и рыцари на Сретенье встретятся; крутится мельница, вертится мельница, души в муку, а мука что метелица; крутится мельница, вертится мельница, последним куском мы с костлявой поделимся; мельница вертится, мельница крутится, монашки и рыцари стерпятся-слюбятся… когда, однако же, мельница заполыхала изнутри и к ней стали подкатывать экипажи для безголовых рыцарей и безголовых монахинь и когда много позже – заходы, закаты – святой Бруно прошел сквозь пламя, а разбойник Бобровский со своим дружком Матерной, от которого все и пошло, ходили по дворам и подпускали красного петуха всюду, где на воротах уже были кем-то услужливо намалеваны кресты, – закаты, заходы, – и Наполеон, до и после, когда город был осажден по всем правилам военного искусства, ибо на нем были неоднократно и с переменным успехом опробованы знаменитые пороховые ракеты Конгрева, – но и в самом городе, и на его укреплениях, на бастионах Волк, Медведь, Буланый и на бастионах Выскок, Кролик и Девкина Дырка, задыхались в чаду французы, чертыхались от бессильной злобы поляки с их князем Радзивиллом, тщетно надрывал глотки полк однорукого капитана де Шамбюра. Однако пятого августа к городу подступил доминиканский паводок, вода без всяких штурмовых лестниц с первого приступа взяла бастионы Буланый, Кролик и Выскок, подмочила пороха, с шипением и треском загасила в своих толщах грозные ракеты Конгрева и запустила в город, в его улочки и закоулки, кладовки и кухни несметные полчища рыбы, особливо щук – вот уж кто поживился на славу, хоть провиантские склады на Хмельной улице к тому времени и были сожжены, – заходы, закаты. Такой реке, как Висла, все к лицу и все ее красит: закаты и кровь, глина и пепел. Ей бы улететь вместе с вольным ветром. Но не всякая воля исполняется, и реки, которым так хочется в небо, тоже впадают в Вислу.
Вторая утренняя смена
Вот она, здесь, на столешнице у Браукселя, и перекатывается через шивенхорстскую дамбу, изо дня в день. А на никельсвальденской дамбе стоит Вальтер Матерн и скрежещет зубами – ибо вода сходит. Как отмытые, помолодев, обнажаются из-под воды дамбы. Только скрещенные крылья ветряков, туповерхие колокольни да тополя – Наполеон приказал посадить их тут для прикрытия своей артиллерии – лепятся, как приклеенные, на их гребнях. И он, Вальтер, стоит один-одинешенек. Правда, с собакой. Но та не стоит, носится, то она там, то тут. За его спиной, уже в полумраке и ниже уровня реки, раскинулась отвоеванная людьми Пойма, и пахнет маслом, сывороткой, сливками, сыроварнями, почти до тошноты пахнет здоровьем и молоком. Вот он стоит, девятилетний пацан, по-хозяйски расставив ноги с багрово-синюшными коленками, растопырив обе свои пятерни, прищурив глаза и напыжившись так, что все шрамы и царапины, все отметины и следы падений, драк и нырков под колючую проволоку на его стриженой макушке набухают от напряжения, вот он, Вальтер Матерн, скрежещет зубами, двигая челюстью слева направо – эта привычка у него от бабки, – и ищет камень.
А на дамбе хоть шаром покати. Но он все равно ищет. Сухие сучки есть, это он видит. Но сухой сучок против ветра не швырнешь. А ему хочется, надо, невтерпеж швырнуть. Мог бы свистнуть, подозвать Сенту, которая то тут, то там, но не свистит, только скрежещет зубами -чтобы ветер заглушить – и хочет что-нибудь швырнуть. Мог бы криком «Эй, ты!» обратить на себя взор Амзеля, что копошится внизу под дамбой, но во рту у него только скрежет зубовный и нет места ни для какого «Эй, ты!», и ему хочется, надо, очень надо швырнуть, а в карманах, как назло, ни одного камушка; обычно-то у него в каком-нибудь из карманов обязательно камушек найдется, если не два, а сейчас нету.
Такие камушки в здешних местах называют «голышами». Евангелические говорят – «голыши», и немногие католики тоже говорят «голыши». Грубые меннониты – «голыши». И тонкие меннониты – «голыши». И Амзель, который вообще-то любит быть не таким, как все, тоже говорит «голыш», когда имеет в виду камень. И Сента, если ей сказать «Принеси-ка голыш», обязательно принесет камушек. И Криве говорит «голыш», Корнелиус, Кабрун, Байстер, Фольхерт, Август Шпанагель и майорша фон Анкум – все так говорят; и проповедник Даниэль Кливер из Пазеварка, обращаясь к своей пастве, что к грубым, что к тонким меннонитам, говорит примерно так: «И тады малыш Давид как возьмет голыш и как заедет ентому дылде Голиафу…» Потому как «голышом» в здешних местах называют всякий «сподручный», удобный камушек величиной примерно с голубиное яйцо.
Но Вальтер Матерн, как назло, ничего такого в карманах не находит. В правом только крошки да семечки, а вот в левом, между кусками бечевки и бренными останками кузнечика – а зубы тем временем скрежещут, а солнце между тем скрылось, а Висла течет, влача в своих водах что-то из Гютланда, что-то из Монтау, а Амзель все еще копается, и облака куда-то, и Сента против ветра, а чайки на ветру и дамбы чисты как вылизанные, а солнце ушло, ушло, ушло – он нашаривает свой перочинный нож. Солнце заходит в восточных краях медленнее, чем в западных, это любому ребенку известно. Висла течет от одного небосклона к противоположному. Вот уже от шивенхорстской пристани отделился паром с намерением дотащить, косо идя наперерез течению и всеми силенками упираясь, дотащить два товарных вагона до рельсов узкоколейки, что протянулась от Никельсвальде до Штутхофа. Как раз сейчас кусок дубленой кожи по имени Криве отвернет от ветра свое бычье лицо и начнет ощупывать неморгающим, почти без ресниц, взглядом противоположную дамбу: лениво вращаются крылья ветряка, а вон тополя – Криве их наперечет знает. Глаза у него слегка навыкате, и выражение в них несгибаемое, а рука в кармане. Наконец, он соизволяет опустить взгляд чуть пониже – а что это там копошится возле самой воды, этакое смешное и круглое, и, похоже, норовит что-то выудить из Вислы. Да это же Амзель охотится за старьем. А зачем ему старье, это любому ребенку известно.
Дубленому Криве, однако, неизвестно, что такое обнаружил Вальтер Матерн в своем кармане, обшаривая его в тщетных поисках голыша. И пока Криве прячет свое сыромятное лицо от ветра, нож в ладони Вальтера Матерна потихоньку согревается. Это Амзель ему нож подарил. Три лезвия, штопор, пилка и даже шило. Краснощекий увалень Амзель, уморительно смешной, когда он плачет. Амзель, который сейчас внизу под дамбой копается в прибрежной тине, ибо хотя сейчас Висла медленно, пядь за пядью, на палец в час, отступает, но когда от Монтау до Кэземарка потоп, она поднимается до самого гребня дамбы и оставляет разные вещи, иной раз аж из самого Пальшау.
Ушло. Село. Упало там, на горизонте, за дамбу, оставив только разгорающийся багрянец. И тогда – один лишь Брауксель это знает – Вальтер Матерн еще крепче сжимает нож, который покамест у него в кармане. Амзель – тот немного помоложе Вальтера Матерна. Сента, черным-черна, мышкует вдалеке, такая же черная, как багрово закатное небо над шивенхорстской дамбой. Дохлая кошка в ветвях плавника. Чайки совокупляются на лету, шелковистая оберточная бумага на ветру трепещет – то расправится, то свернется; стеклянные глаза-пуговки цепко видят все, что плывет, парит, юркает, шмыгает, затаилось, замерло или просто существует на свете, как существуют две тысячи веснушек на физиономии Амзеля; видят и то, что на голове у него каска, какие носили еще до Вердена. Каска сползает на глаза, надо ее отодвинуть на макушку, она опять сползает, мешая Амзелю выуживать из тины штакетины, жерди и свинцово набрякшее тряпье, – вот тут-то как раз из ветвей на прокорм чайкам вываливается кошка. Мыши снова снуют в недрах дамбы. И паром все еще приближается к берегу. Река несет и вращает дохлую рыжую псину. Сента нюхает ветер. Паром упрямо и зло тащит наперерез течению два товарных вагона. И телку, уже неживую, тоже несет река. Ветер вдруг стих, запнулся, но еще не переменился. Чайки замерли в воздухе, они в недоумении. И вот тут, покуда все это – паром и ветер, телка и солнце за дамбой, мыши в дамбе и чайки на лету, – Вальтер Матерн достает из кармана зажатый в кулаке нож, прижимает его – а Висла все течет – к шерстяной груди свитерка и стискивает что есть силы, так что костяшки пальцев в разгорающемся зареве отливают мелом.