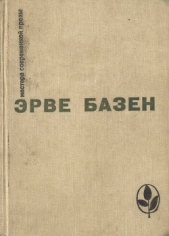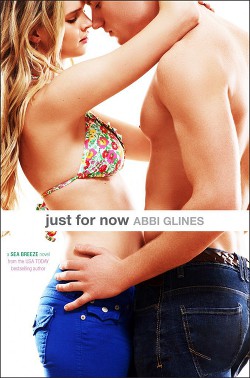Смерть лошадки

Смерть лошадки читать книгу онлайн
Трилогия французского писателя Эрве Базена («Змея в кулаке», «Смерть лошадки», «Крик совы») рассказывает о нескольких поколениях семьи Резо, потомков старинного дворянского рода, о необычных взаимоотношениях между членами этой семьи. Действие романа происходит в 60-70-е годы XX века на юге Франции.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я не особенно от этого страдал: так уж устроено мое сердце, оно мало подходит для функции сообщающихся сосудов. Я даже не протестовал. Конечно, никогда я не был лилией, снежно-белой лилией, которая прямо, как стрела, выходит из луковицы, подобно тем, что держит в руках святой Иосиф крашеный гипс, номер 196-й каталога «Сантимы». Но я ненавижу пай-мальчиков, для меня они как фальшивая монета, и немалая ирония была в том, что за мной укрепилась подобная репутация среди целого полчища извращенных молокососов, каждое воскресенье исповедовавшихся в своем грехе. Конечно, у меня были прегрешения, но хоть неподдельные. В тех редких случаях, когда мне удавалось выбраться за ограду коллежа с несколькими монетами в кармане, я несся на улицу Шартр, где разгуливали дородные бретонки. В то же время у меня был свой «головной роман»: я хочу сказать, серия нескончаемых, хорошо построенных, хорошо слаженных, логично развивавшихся грез, вроде тех фильмов, в конце которых чудом воскресает пулеустойчивый герой. Именно по этой причине я мог в течение длительного времени пренебрегать чтением, которое является плодом чужого воображения. Какой роман мог соперничать с моим, с тем, который я рассказывал сам себе, своим языком, и где я был одновременно автором и главным действующим лицом? Поначалу это была настоящая эпопея в жанре «Приключений парижского мальчишки» (и прямо соответствовала моим географическим познаниям). Впоследствии издательство моих грез несколько видоизменило сюжет. Я сотворил из собственных ребер не одну, а целую серию не особенно опрятных Ев. Все они назывались родовым именем Магдалина, отнюдь не по причине профессиональной репутации этой святой, а в память о подлинной Мадлен, юной скотнице, которую я в возрасте пятнадцати лет удостоил несколькими небезынтересными встречами в лесах «Хвалебного». Скажу к своей чести: ни разу Магдалины не довели меня до того, что социологи поэтически именуют «рукоблудием в честь суккубы». Впрочем, Магдалины, опять-таки во мне самом, находили свою противоположность — Жанну, то есть существо неприкосновенное, высокочтимая женская ипостась меня самого.
Жанна, Магдалина… извечные темы, не слишком-то оригинальные, которые не смешиваются между собой, как рыбий жир и святая вода.
Во всем я был, таким образом, манихеем. Белое и черное. Я против себя самого. Фикция, разумеется, и комедия! Забавы одинокого мальчишки, который упустил случай стать интересным в глазах своих «врагов» и который старается стать интересным в своих собственных глазах. Но в равной мере и природная склонность разделять надвое все двойственное, видеть в любой паре не общность, а поединок, превращать жизнь в рукопашную, и при необходимости правая рука — против левой, сам — против себя самого. Лицемерие противоположностей, неустойчивое равновесие на манер весов — где нетрудно обвесить, ворон и голубка, цинизм и чистота — все это на одном насесте, злобно, клюв к клюву. В самом себе я обнаруживаю наиболее веский аргумент против той философии, кстати еретической, которая изображает человека якобы добрым от природы.
Говоря так, я не хвастаю, я просто знаю. На меня нашел стих исповедаться, хотя я давным-давно забыл дорогу, что ведет к окошечку исповедальни в самом темном углу храма, которое открывает подагрический духовник. Не такой уж я любитель откровенностей, но бывает, что мне нравится вывернуть себя наизнанку, и в этом я иду в ногу со своим веком. Я ничуть не презираю сложности. Я вовсе не прост. Я всегда считал, что простота (и наш век придерживается того же мнения) — ближайшая родня нищете духа… Блаженны нищие духом — фу, гадость какая! Никто еще не давал обета стать нищим духом. Единственно непереносимое из четырех бедствий, которые делают человека нищим духом, нищим деньгами, нищим телом или нищим сердцем.
Нищий сердцем… вот она, подлинная, самая страшная нищета. Страшная потому, что самая упорная: с помощью воли можно развить дух, разбогатеть, холить свое тело. Но воля бессильна против нищеты чувств, особенно когда эта нищета наследственная.
Я думаю с трех наследничках. Думаю о моем брате Фреде, по кличке Рохля, думаю об этой жалкой свинцовой натуре, которую расплавили и вылили в изложницу апатии, где он и застыл раз навсегда. О Марселе, по кличке Кропетт, медлительном и скрытном, бледнолицем любимчике мамаши. Об этом горлопане Хватай-Глотай, который якобы избрал бунт.
Какой бунт? Тот, что пробегает по вашей жизни, как огонь по бикфордову шнуру, и умеет воспламенять лишь безрассудные выходки да жалкие трескучие петарды? Или тот, что губит одновременно и самого взрывника, и то, что он взрывает? Или тот, что обуздывает себя и становится лучшим пособником справедливости? Ведь бунтуют не только против определенных людей, но против всех, кто на них похож, против идей, которые они исповедуют. Бунт не будет настоящим, пока человек не прекратит бунтовать за свой страх и риск и особенно если он не бунтует против себя самого. Но тут уж, как говорится, бунт становится революцией.
3
Стоявшая между «Кер-Флерет» и «7-А-С» — между двумя гнусными халупами вилла Ладуров красноречиво свидетельствовала об известном наличии вкуса у ее владельцев. «Армерия» — гласила эмалированная дощечка. Сотня квадратных метров садика, и ни одного полагающегося в таких случаях куста, зато блекло-розовый кирпичный фасад вполне гармонировал с местной лазурью, с этой лавандовой дымкой в белых разрывах, с приглушенной охрой утеса, круто спускавшегося к бухточке Кервуаяль, с этой смесью серо-ржавых и серо-влажных тонов — словом, с картиной типичного бретонского пляжа в часы отлива. Шесть настежь раскрытых окон вдыхали сухопутный ветерок, который неспешной рысцой набегал из дальних Ланвойских ланд, где, по слухам, нашла себе приют последняя пара волков.
Двадцать четвертого июля 1933 года я, жадно принюхиваясь и весь ощетинясь, предстал перед вратами овчарни, как настоящий волчонок. С полдюжины купальных трусиков сохло на кольях распахнутой калитки. Я разглядел медный колокольчик, позеленевший от времени, но он висел слишком высоко, а шнурка не было. Однако я вскарабкался на чемодан и попытался дотянуться до колокольчика, он издал неопределенное жиденькое звяканье, столь же нерешительное, как и я сам. И сразу же во всех шести окнах показались голые руки, завитушки волос и веселые улыбки.
— Вход свободный! — крикнул чей-то пронзительный голос, голос чайки.
Я не успел пересечь сада, где сохли сети для ловли креветок. На полпути к крыльцу меня затянуло водоворотом юбок, в основном из пестрой шотландки; волей-неволей пришлось остановиться, и я неловко топтался среди садового гравия и восклицаний, явно смущенный этой слишком экспансивной встречей, чрезмерным количеством рук, протянутых ко мне, словно пальмовые ветви при въезде Иисуса Христа в Иерусалим. В довершение всего юноша — на голове у него было накручено величественным тюрбаном мохнатое полотенце — встал передо мной и на манер кудахтающей курицы испустил торжественный призывный крик, крик клана: «Цып, цып! Цып!» Достойный отпрыск семейства, которое все подвергает осмеянию, я не удержался и нахмурил брови. «Ничего, симпатичный, немножко глуповатый, типичный скорняжный выводок». Я слегка пожал наугад две-три руки побольше размером и отвесил такое же количество поклонов. Затем с достоинством пробормотал:
— Мадемуазель… Мсье… Я Жан Резо. Имею честь…
— О-ля-ля! — хихикнул юноша, а девицы, озадаченные подобными церемониями, совсем «завыкали» меня, прочирикивая это «вы» между двумя взрывами смеха.
— Надеюсь, вы удостоите нас чести, надеюсь, вы соблаговолите войти в наш дом! — сказала одна из них, склоняясь передо мной в низком поклоне и взмахивая своей рыжей гривой.
Моя гордыня рухнула в бездну смущения. Напыжившись, как индюк среди изящных цесарок, и потрясая в их честь красным махром, я шагнул к крыльцу. У тебя идиотский вид. Надо приноровиться к ним, просюсюкал живший во мне великий филантроп. На мое счастье, юноша в тюрбане положил конец этой сцене.