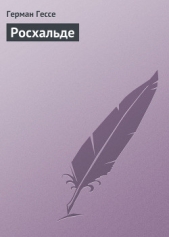Последнее лето Клингзора (сборник)

Последнее лето Клингзора (сборник) читать книгу онлайн
В настоящий сборник входят написанные в 1919 году повести которые определили пути дальнейшего развития творчества Германа Гессе.
Перевод с немецкого С. Апта.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Повесть «Последнее лето Клингзора» дала в издании 1920 года название всей книге. Эта повесть — самая удивительная по свободе письма. Пожалуй, впервые именно тут Гессе не столько меняет ракурсы и чередует контрастные состояния — он постоянно ведет мелодию и контрмелодию, в каждый момент видит и связывает противоречия, объясняющие и дополняющие друг друга. Все в повести, каждая ее строчка, говорит о том, чем кончится это лето для ее героя, и обо всех пропастях и безднах, которые грозят человечеству: «...Наш прекрасный разум стал безумием, наши деньги — бумага, наши машины могут только стрелять и взрываться...» Но все пронизано и торжествующей праздничностью, послушно вольной фантазии. В этой повести действуют персонажи с причудливыми именами: Ту Фу, Луи Беззаботный — так называл автор своих ближайших друзей. Да и в имени самого героя много игры. С одной стороны, дата рождения Клингзора совпадает с годом рождения Гессе; с другой — Клингзор действует не только в этой повести: поэт и волшебник Клингзор появлялся и в средневековом романе «Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха, и у романтика Новалиса. Будто сошлись все времена и нет больше необходимости воспринимать все в скучной последовательности.
В рассуждениях художника Клингзора о живописи читатель может уловить мысли Гессе о собственном его творчестве: отказавшись, как и герой, от наивного подражания природе, писатель сумел на малом пространстве своих повестей передать «реальные соотношения, реальные напряжения» — реальную сложность жизни. Три небольшие повести определили пути дальнейшего его творчества — одну из вершин реализма XX века.
Н. Павлова
Душа ребенка
Порой мы совершаем какие-то действия, уходим, приходим, поступаем то так, то этак, и все легко, ничем не отягощено и как бы необязательно, все могло бы, кажется, выйти и по-другому. А порой, в другие часы, по-другому ничего выйти не может, ничего необязательного и легкого нет, и каждый наш вздох определен свыше и отягощен судьбой.
Те дела нашей жизни, которые мы называем добрыми и рассказывать о которых нам бывает легко, почти сплошь принадлежат к этому первому, «легкому» роду, и мы легко о них забываем. Другие дела, говорить о которых нам тяжко, мы никогда не можем забыть, они в какой-то степени больше наши, чем те, и длинные тени их ложатся на все дни нашей жизни.
В наш отцовский дом, большой и светлый дом на светлой улице, ты входил через высокий подъезд, и сразу тебя обдавали сумрак и дыхание сырого камня. Высокая темная прихожая молча принимала тебя, пол из плит красного песчаника вел с легким подъемом к лестнице, начало которой виднелось в глубине в полумраке. Тысячи раз входил я в этот высокий подъезд и никогда не обращал внимания ни на него, ни на прихожую, ни на плиты пола, ни на лестницу; и все-таки это всегда бывал переход в другой мир, в «наш» мир. Прихожая пахла камнем, она была темная и высокая, лестница в глубине ее вела из темного холода вверх, к свету и светлому уюту. Но всегда сначала были прихожая и суровый сумрак, а в них что-то от отца, что-то от достоинства и власти, что-то от наказания и нечистой совести. Тысячи раз ты проходил эту прихожую со смехом. Но иногда ты входил и сразу оказывался подавлен, чувствовал страх, спешил к освобождающей лестнице.
Когда мне было одиннадцать лет, я как-то пришел из школы домой в один из тех дней, когда судьба подстерегает нас в каждом углу, когда легко может что-нибудь произойти. В такие дни любая душевная неурядица и незадача словно бы отражается в нашем окружении, обезображивая его. Недовольство и страх гнетут наше сердце, и мы, ища и находя вне себя мнимые их причины, видим мир плохо устроенным и всюду натыкаемся на препятствия.
Так было и в тот день. С самого утра меня угнетало – кто знает почему, может быть, из-за ночных снов – чувство, похожее на нечистую совесть, хотя я ничего особенного не натворил. У отца было утром страдальческое и упрекающее выражение лица, молоко за завтраком было теплое и невкусное. В школе, правда, никаких огорчений на мою долю не выпало, но и там все опять казалось безотрадным, мертвым и удручающим, соединившись в том уже знакомом мне чувстве бессилия и отчаяния, которое говорит нам, что время бесконечно, что мы на годы, навеки останемся маленькими и безответными под гнетом этой дурацкой, противной школы и что вся жизнь бессмысленна и отвратительна.
Досадовал я в тот день и на моего тогдашнего друга. С недавних пор я дружил с Оскаром Вебером, сыном машиниста, не зная толком, что тянет меня к нему. Недавно он хвастался тем, что его отец зарабатывает семь марок в день, а я наудачу ответил, что мой – четырнадцать. Он сразу поверил и проникся ко мне уважением; с этого все и началось. Несколько дней спустя мы с Вебером заключили союз, заведя общую копилку, чтобы потом купить пистолет. Пистолет лежал в витрине скобяной лавки, тяжелая штука с двумя синеватыми стальными стволами. И Вебер подсчитал, что если экономить по-настоящему, то можно будет довольно скоро купить его. Ведь деньги случаются всегда, он часто получает по десяти пфеннигов на карманные расходы, а иногда находишь прямо на улице или деньги, или какие-нибудь ценные вещи, например, подкову, слиток свинца и тому подобное, которые вполне можно продать. Десять пфеннигов он тут же и дал для нашей копилки, и они убедили меня, и весь наш план показался мне осуществимым и многообещающим.
Когда я в тот день входил в нашу переднюю и холодный, как в погребе, воздух смутно напомнил мне тысячи неприятных и ненавистных вещей, какие существуют на свете, мысли мои были заняты Оскаром Вебером. Я чувствовал, что не люблю его, хотя его добродушное лицо, напоминавшее мне одну прачку, было мне симпатично. Привлекали меня не его личные качества, а что-то другое, я бы сказал, его положение – нечто такое, что он разделял почти со всеми мальчиками его типа и происхождения: какое-то дерзкое умение жить, нечувствительность к опасностям и обидам, близкое знакомство с практическими мелочами жизни, с деньгами, лавками и мастерскими, с товарами и ценами, с кухней, стиркой и тому подобным. Такие мальчики, как Вебер, которым побои в школе, казалось, не причиняли боли, мальчики, состоявшие в родстве и дружившие со слугами, извозчиками и фабричными девицами, – они занимали в мире другое, более твердое положение, чем я; они были как бы взрослее, они знали, сколько зарабатывает в день их отец, и знали, несомненно, еще многое, в чем я был несведущ. Они смеялись над выражениями и шутками, которых я не понимал. Они вообще умели смеяться так, как мне не было дано, на какой-то грязный и грубый, но бесспорно взрослый и мужской лад. Что из того, что ты был умнее их и знал в школе больше! Что из того, что ты был лучше одет, умыт и причесан! Напротив, именно эти различия шли им на пользу. В мир, видевшийся мне в каком-то сумеречном и авантюрном свете, такие мальчики, как Вебер, могли войти, казалось, без всяких трудностей, а для меня мир был совершенно закрыт и каждую дверь в него надо было брать с бою, без конца взрослея, отсиживая уроки, держа экзамены и воспитываясь. Естественно, что такие мальчики находили на улице подковы, деньги, получали плату за услуги, поживлялись в лавках на даровщинку и всячески процветали.
Я смутно чувствовал, что моя дружба с Вебером и его копилкой была не чем иным, как тоской по этому миру. В Вебере для меня не было ничего достойного любви, кроме его великой тайны, благодаря которой он был ближе, чем я, к взрослым, жил в неприкрытом, более голом, более грубом мире, чем я со своими мечтаньями и желаньями. И я наперед чувствовал, что он разочарует меня, что мне не удастся вырвать у него его тайну, его магический ключ к жизни.
Он только что простился со мной, и я знал, что сейчас он идет домой вольготным, неторопливым шагом, посвистывая и наслаждаясь, не омраченный никакой тоской, никакими предчувствиями. Когда он встречал служанок и фабричных и наблюдал их загадочную, может быть, чудесную, а может быть, преступную жизнь, для него она не была загадкой, страшной тайной, опасностью, чем-то диким и любопытным, а была такой же естественной, знакомой и родной, как утке вода. Вот как обстояло дело. А я – я всегда буду сбоку припека, в одиночестве и неопределенности, полон догадок, но лишен уверенности.