Поздняя проза
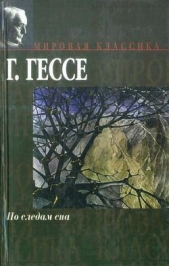
Поздняя проза читать книгу онлайн
По следам сна — нечто, даже в сложном, многообразном творчестве Германа Гессе, стоящее несколько особняком. Философская ли это проза — или просто философия, облеченная в художественную форму? Собрание ли странноватых притч — или автобиография, немыслимо причудливо выстроенная?
Решайте это сами — как, впрочем, и то, к каким литературным видам и подвидам отнести реально произведения, условно называемые поздней прозой Германа Гессе …
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А теперь на месте, принадлежавшем этому старому знакомцу и другу, возникла дыра, в малом мире зияла щель, через которую в него заглядывали пустота, мрак, смерть, ужас. Печально лежал сломанный ствол, древесина была трухлявой и ноздреватой, ветки при падении переломились, недели через две они, возможно, снова несли бы свою розовую весеннюю крону в голубые или серые небеса. Никогда больше не сорву я с него ветку или плод, никогда больше не буду пытаться зарисовать прихотливую и довольно фантастическую структуру его разветвлений; никогда больше в жаркий летний полдень не сверну со ступенчатой тропки, чтобы минутку передохнуть в его негустой тени. Я позвал Лоренцо, садовника, и велел ему отнести упавшее дерево в сарай. Там в ближайший дождливый день, когда никакой другой работы не будет, его распилят на дрова. Мрачно глядел я вслед садовнику. Ах, и на деревья тоже нельзя положиться, и они тоже могут уйти от тебя, умереть, оставить тебя одного и исчезнуть в великом мраке!
Я смотрел вслед Лоренцо, которому тяжело было тащить ствол. Прощай, мое милое персиковое дерево! По крайней мере и за это я называю тебя счастливым, ты умерло пристойной, естественной и правильной смертью, ты упиралось и держалось до последней возможности, пока великий враг не вывихнул тебе суставы. Тебе пришлось уступить, тебя повергли и отделили от твоего корня. Но ты не расщеплено авиационными бомбами, не сожжено дьявольскими кислотами, не оторвано, как миллионы, от родной земли, не пересажено с кровоточащими корнями наспех, не упаковано вскоре снова, не стало снова безродным, тебе не пришлось видеть вокруг себя гибель и разрушение, войну и надругательство, не довелось умереть в бедствии. Твоя судьба была такой, какая назначена и подобает таким, как ты. За это я называю тебя счастливым; ты состарилось лучше и красивее, ты умерло достойнее, чем мы, которые на старости лет должны защищаться от яда и бед зачумленного мира и отвоевывать у всепожирающего разложения вокруг нас каждый глоток чистого воздуха.
Увидев упавшее дерево, я, как всегда при подобной потере, подумал о замене, о посадке нового дерева. На месте упавшего мы бы вырыли яму и оставили ее надолго открытой воздуху, дождям и солнцу, а со временем кинули бы туда лопатку-другую навоза, немного перегноя из кучи сорняка, всяческих отбросов, смешанных с древесной золой и вскоре, желательно при теплом дождичке, посадили бы новое, молодое деревце. И этот малыш, этот детеныш дерева тоже как-то прижился бы к здешней земле, к здешнему воздуху и стал товарищем и добрым соседом лоз, цветов, ящериц, птиц и бабочек, начал бы через несколько лет плодоносить, а каждую весну во второй половине марта расцветал бы своим милым цветом и, если бы судьба оказалась к нему добра, рухнул бы когда-нибудь старым, уставшим деревом, пав жертвой бури или оползня или под тяжестью снега.
Но на этот раз я не решился сажать что-то новое. За свою жизнь я посадил довольно много деревьев, одним больше, одним меньше — это не имело значения. И что-то во мне противилось тому, чтобы и сейчас опять начинать круговорот, снова раскручивать колесо жизни, растить новую добычу прожорливой смерти. Мне не хочется. Пускай это место останется пустым.
На горе Риги
Дневник
Из высохшего и выжженного Тессина, из нашего высохшего и выжженного сада мы ненадолго сбежали на Риги, на воды, где нам было даровано еще несколько дней теплого лета с прекрасным обзором окрестных далей. Здесь наверху чудесно, я должен извиниться перед горой, которую когда-то, сорок пять лет назад, в «Дневнике Лаушера» назвал скучной. Тогда я еще не открыл для себя гор и с молодой одержимостью был влюблен в озеро, в воду и ее краски, которые изо дня в день подсматривал с берега и с гребной лодки. Один-единственный раз съездил я тогда наверх, в Риги-Кульм, где сразу почувствовал себя чужим, мне претила индустрия туризма, и я поскорее спустился назад пешком, чтобы опять погрузиться в свой культ озера. Никаких неприятных ощущений от быстрой перемены высоты, довольно утомительных для меня сегодня, я тогда не испытывал. Но зато мне не хватало спокойствия и терпения, чтобы действительно заняться горой и не обращать внимания на толпы приезжих, отели, железные дороги и открытки с видами. По тем временам я поступил правильно; озеро Лаушера было настоящим, большим событием, а упущенное тогда я могу наверстать сегодня.
В первые, еще сухие, теплые и совсем светлые дни гора показала себя с самой великолепной своей стороны, можно было беззаботно бродить, валяться на любом лугу в низкой траве, и с утра до позднего вечера глазам открывались невероятные, почти ни сколько-нибудь не замутненные виды, можно было развлекаться определением или узнаванием вершин или, отдыхая, отдаваться только смене красок, света и теней, причудливой геометрии огромной панорамы. Переходы от камня к снегу, освещенные солнцем гребни и темные ущелья цепи вершин, прихотливый путь маленькой тени облака над этим множеством зубцов и расселин — все это может заворожить, привести в восторг, как ритмы и цезуры стихотворения.
Из этой великой, блестящей дали взгляд снова возвращается к близкому, связь с которым устанавливается быстрее и легче и которое не беднее очарованием и волшебством. Встречаются сказочные группы скал и впадины в скалах, то патетические, храмоподобные, то маленькие, забавные, идеальные уголки для детских игр, закрытые зеленые зальцы, комнатки и норки с узкими воротцами, похожими на гномов калеками-елочками, папоротниками и извивающимися, как змеи, корнями. Влажные, зеленые, мшистые, с острыми запахами, эти маленькие урочища очень напоминают мне мое детство и Шварцвальд. Как только выходишь из этих пахнущих елью, мхом и геранью укрытий, снова открываются бесконечная синяя, окаймленная множеством дальних гор ширь, озеро, предгорья с яркими изумрудными лужайками, блестящими речками, темными лесными массивами, крошечными селениями.
Лежа или сидя где-нибудь здесь, среди травы, елок, камней и редких цветов, я вижу почти прямо подо мной, на тысячу метров ниже, полукруглый сине-зеленый залив озера, игрушечную деревню и извилистую дорогу. Это Фицнау, там сорок пять лет назад я писал «Дневник Лаушера» и делал первые наброски для «Петера Каменцинда». Я уже не могу перенестись туда, то время и тогдашний молодой человек так же далеки, так же чужды мне и нереальны, как эта крошечная деревня внизу и синий залив, они как бы не имеют ко мне отношения. Тогда ко мне не имела отношения и претила мне гора Риги; я был привязан к лету, к жаре, к воде и лодке, к мечтательной работе веслами вдоль тихих берегов и вокруг скалистых полуостровков и мысов, к наблюдению игры красок в воде, к купанью в укромных заливчиках, к полузабытью с закрытыми глазами на летнем палящем солнце. Я был один, лишь изредка получал письма, не читал газет, смотрел на гостей больших отелей и пароходов издалека со смесью недоверия и любопытства, стремился к жизни без людей, без современности, без общества, искал пути от созерцания природы к истинной жизни в ней. Тогда я и слушать не стал бы, если бы мне сказали, что когда-нибудь, в старости, я поселюсь там наверху, на Риги в «Гранд-отеле», что буду пить чай под легкую музыку и совершать маленькие прогулки, продолжительностью в четверть часа или полчаса, чтобы потом долго отдыхать на скамеечке или мучиться у себя в номере с послеполуденной почтой.
Я взял с собой очень мало книг для чтения, в числе прочего — «Геспера» Жан Поля, роман, который любит и Нинон; мне показалось, что пришла пора перечитать его снова. Теперь, когда ненавидеть немцев стало бесполезно и удобно, теперь, когда это можно предоставить отсталым и глупым, постепенно осознаешь утраты, которые понесли Германия и мир, утраченность родины, красоты, воспоминаний, родников для фантазии, и среди этого почти невыносимого оскудения с новой жаждой припадаешь к тем родникам, которые еще бьют, из которых нам еще позволено пить, — к немецким писателям доброго времени. Мы лежали вблизи обрыва, край которого был заботливо огорожен и откуда к нам поднимались верхушки елок, и Нинон читала вслух. Мы прочли все предисловия «Геспера» — величайшее наслаждение и удовольствие. Какие мы неутомимые и упорные труженики, когда служим своему произведению, мы, литераторы, как бьемся мы, и больше всего, и особенно терпеливо над тем, чего читатели вовсе и не заметят и что пойдет больше во вред, чем на пользу успеху наших книг, над тем, что существует в общем-то лишь для нескольких коллег и для нескольких десятилетий «вечности»! Можно подумать, что язык — это отец или прародитель, а мы, писатели, — его верные и усердные слуги, хранители, обновители, живущие его жизнью, разделяющие его заботы, наблюдающие и ухаживающие за ним в его благополучии и нездоровье, поощряющие его ко все новым экспериментам и играм. Он, язык, кажущийся нашим орудием и помощником, есть на самом деле наш господин, ради каприза, ради маленького эксперимента, о котором он, может быть, уже завтра забудет, он задает работу сотне умов и рук, и мы все считаем делом чести повиноваться его порывам и побуждениям, служить ему и подчиняться, вызывать у него, пусть хоть на миг, улыбку или смех.

























