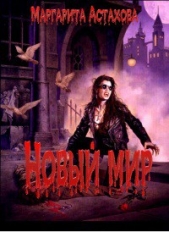Бледное пламя

Бледное пламя читать книгу онлайн
Роман, задуманный Набоковым еще до переезда в США (отрывки «Ultima Thule» и «Solus Rex» были написаны на русском языке в 1939 г.), строится как 999-строчная поэма с изобилующим литературными аллюзиями комментарием. Данная структура была подсказана Набокову работой над четырехтомным комментарием к переводу «Евгения Онегина» (возможный прототип — «Дунсиада» Александра Поупа).
Согласно книге, комментрируемая поэма принадлежит известному американскому поэту, а комментарий самовольно добавлен его коллегой по университету. Коллега, явно сумасшедший, видит в поэме намёки на собственнную судьбу — беглого короля Земблы. В этой несуществующей стране произошла революция, и король бежал в Америку.
(Т.е. интерактивный комментарий к поэме является фактически основной частью романа и должен быть прочитан обязательно, также как и написанное самим Набоковым "Предисловие" и составленный им же "Указатель". Примечания (ссылки в квадратных скобках) добавлены переводчиком.)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Несмотря на "хромое" сердце (смотри строку 736), незначительную колченогость и странно уклончивую манеру передвигаться, Шейд питал необычайную страсть к пешим прогулкам, впрочем, снег ему досаждал, и зимой он предпочитал, чтобы после занятий жена заезжала за ним на машине. Несколькими днями позже, выйдя из Плющевого, иначе Главного холла (ныне, увы, Шейд-холл), я увидал его поджидающим снаружи, когда приедет за ним миссис Шейд. С минуту я простоял рядом с ним на ступеньках подпираемого колоннами портика, подтягивая палец за пальцем перчатку, глядя вдаль, как бы в ожидании частей, имеющих прибыть для парада: "Проникновенное исполнение", — заметил поэт. Он справился с ручными часами. Снежинка пала на них. "Кристалл к кристаллу", — сказал Шейд. Я предложил отвезти его домой в моем мощном "кремлере". "Жены запамятливы, мистер Шейд." Он задрал кудлатую голову, чтобы взглянуть на библиотечные часы. По холодной глади укрытой снегом травы, смеясь и оскальзываясь, прошли двое парнишек в цветных, в сверкающих зимних одеждах. Шейд опять посмотрел на часы и, пожав плечами, принял мое предложение.
Не будет ли он возражать, осведомился я, если мы выберем путь подлиннее, с остановкой в Общественном центре, где я намереваюсь купить печенье под шоколадной глазурью и немного икры? Он сказал, что его это устроит. Изнутри супермаркета, сквозь его зеркальные окна я видел, как наш старичок дунул в винную лавку. Когда я вернулся с покупками, он уже сидел в машине, читая бульварную газетенку, до прикосновенья к которой не снизошел бы, полагаю, ни единый поэт. Симпатичная выпухлость сообщила мне, что где-то на нем тепло укрыта фляжка коньяку. Подъездным путем завернув к его дому, мы увидали тормозящую перед ним Сибил. Я с учтивой поспешностью вышел. Она сказала: "Поскольку мой муж не любитель знакомить людей, давайте знакомиться сами. Вы доктор Кинбот, не так ли? А я Сибил Шейд." И она обернулась к мужу, говоря, что он мог бы еще минутку подождать ее у себя в кабинете: она и звала, и гудела, и долезла до самого верха, и проч. Не желая быть свидетелем супружеской сцены, я поворотился, чтобы уйти, но она остановила меня: "Выпейте с нами, — сказала она, — вернее со мной, потому что Джону запрещено даже прикасаться к спиртному". Я объяснил, что не смогу задержаться надолго, ибо вот-вот должен начаться своего рода маленький семинар, за которым мы немного пиграем в настольный теннис с двумя очаровательными близнецами и еще с одним, да, еще с одним молодым человеком.
С этого дня я начал все чаще видаться со своим знаменитым соседом. Одно из моих окон неизменно доставляло мне первостатейное развлечение, особенно, когда я поджидал какого-нибудь запоздалого гостя. С третьего этажа моего жилища явственно различалось окошко гостиной Шейдов, пока оставались еще обнаженными ветви стоявших меж нами листопадных деревьев, и едва ли не каждый вечер я наблюдал за мерно качавшейся ногой поэта. Отсюда следовало, что он сидел с книгой в покойном кресле, но более ничего никогда высмотреть не удавалось, кроме этой ноги да тени ее, двигавшейся вверх-вниз в таинственном ритме духовного поглощения, в сгущенном свете лампы. Всегда в одно и то же время сафьянная коричневая туфля спадала с толстого шерстяного носка ноги, который продолжал колебаться, слегка, впрочем, замедляя размах. Значит, близилось время постели со всеми его ужасами. Значит, через несколько минут носок нашарит и подденет туфлю и пропадет из золотистого поля зрения, рассеченного черной чертой ветки. Иногда по этому полю проносилась, всплескивая руками, как бы в гневе вон выбегая из дому, Сибил Шейд и возвращалась, словно простив мужу дружбу с эксцентричным соседом; впрочем, загадка ее поведения полностью разрешилась одним вечером, когда я, набрав их номер и между тем наблюдая за их окном, колдовски заставил ее повторить торопливые и совершенно невинные перемещения, что так озадачивали меня.
Увы, мир моей души вскоре был поколеблен. Густая струя ядовитой зависти излилась на меня, как только ученое предместье сообразило, что Джон Шейд ценит мое общество превыше любого другого. Ваше фырканье, дражайшая миссис Ц., не ускользнуло от нас, когда после отчаянно скучного вечера в Вашем доме я помогал усталому старику-поэту отыскивать галоши. Как-то в поисках журнала с изображенным на обложке Королевским дворцом в Онгаве, который я хотел показать моему другу, мне случилось зайти на кафедру английской литературы и услышать, как молодой преподаватель в зеленой вельветовой куртке, которого я из милосердия назову здесь "Геральд Эмеральд", небрежно ответил на какой-то вопрос секретарши: "По-моему, мистер Шейд уже уехал вместе с Великим Бобром." Верно, я очень высок, а моя каштановая борода довольно богата оттенками и текстурой, дурацкая кличка относилась, очевидно, ко мне, но не стоила внимания, и я, спокойно взяв свой журнал с усыпанного брошюрами стола, отправился восвояси и лишь мимоходом распустил ловким движением пальцев галстук-бабочку на шее Геральда Эмеральда. Было еще одно утро, когда доктор Натточдаг, глава отеления, к коему я был приписан, официальным тоном попросил меня присесть, затворил дверь и, воссоединясь со своим вращающимся креслом и угрюмо набычась, настоятельно посоветовал мне "быть осторожнее". Осторожнее? В каком смысле? Один молодой человек пожаловался своему наставнику. Господи помилуй, на что? На мою критику в адрес посещаемого им курса лекций по литературе ("нелепый обзор нелепого вздора в исполнении нелепой бездарности"). С неподдельным облегчением расхохотавшись, я обнял милого Неточку, обещая ему, что никогда больше не буду таким гадким. Я хочу воспользоваться этой возможностью и послать ему мой привет. Он всегда относился ко мне с таким исключительным уважением, что я порою задумывался, — уж не заподозрил ли он того, что заподозрил Шейд, и о чем определенно знали лишь трое (ректор университета и двое попечителей).
О, этих случаев было немало. В скетче, разыгранном студентами театрального факультета, меня изобразили напыщенным женоненавистником, постоянно цитирующим Хаусмана с немецким акцентом и грызущим сырую морковь, а за неделю до смерти Шейда одна свирепая дама, в клубе которой я отказался выступить насчет "Халли-Валли" (как выразилась она, перепутав жилище Одина с названием финского эпоса), объявила мне посреди бакалейной лавки: "Вы на редкость противный тип. Не понимаю, как вас выносят Джон и Сибил", — и отчаявшись моей учтивой улыбкой, добавила: "К тому же, вы сумасшедший".
Но разрешите мне прервать заполнение этой таблеты нелепиц. Что бы ни думали и ни говорили кругом, дружба Джона вполне наградила меня. Дружба тем более драгоценная, что нежность ее намеренно скрадывалась — в особенности, когда мы были с ним не одни, — этакой грубоватостью, проистекавшей из того, что можно назвать величием сердца. Все обличье его было личиной. Физический облик Джона Шейда так мало имел общего с гармонией, скрытой под ним, что возникало желание отвергнуть его как грубую подделку или продукт переменчивой моды, ибо если поветрие века Романтиков норовило разжижить мужественность поэта, оголяя его привлекательную шею, подрезая профиль и отражая в овальном взоре горное озеро, барды нашего времени, — оттого, может статься, что у них больше шансов состариться, — выглядят сплошь стервятниками или гориллами. В лице моего изысканного соседа отыскалось бы нечто, способное радовать глаз, будь оно только что львиным или же ирокезским, к несчастью, сочетая и то и другое, оно приводило на ум одного из мясистых хогартовских пьянчуг неопределенной половой принадлежности. Его бесформенное тело, седая копна обильных волос, желтые ногти на толстых пальцах, мешки под тусклыми глазами постигались умом лишь как подонки, извергнутые из его внутренней сути теми же благотворными силами, что очищали и оттачивали его стихи. Он сам себя перемарывал.
Я очень люблю одну его фотографию. На этом цветном снимке, сделанном одним моим недолговременным другом, виден Шейд, опершийся на крепкую трость, принадлежавшую некогда его тетушке Мод (смотри строку 86). На мне белая ветровка, купленная в местном спортивном магазине, и широкие лиловатые брюки, пошитые в Канне. Левая рука приподнята — не с намерением похлопать Шейда по плечу, как оно кажется, но чтобы снять солнечные очки, которых, однако, она так и не достигла в этой жизни, т.е. в жизни на фотографии, а под правой рукой зажата библиотечная книга — это монография о некоторых видах земблянской ритмической гимнастики, которыми я собирался увлечь моего молодого квартиранта, вот этого, который нас щелкнул. Неделю спустя он обманул мое доверие, мерзко использовав мой отъезд в Вашингтон: воротясь, я обнаружил, что он ублажался рыжеволосой шлюхой из Экстона, оставившей свои вычески и вонь во всех трех туалетах. Натурально, мы сразу же и расстались, и я через щель в оконном занавесе смотрел на бабника Боба, как он стоит, жалковатый, со своим бобриком, потертой вализой и лыжами, подаренными мной, выброшенный на обочину, ожидающий однокашника, который увезет его навсегда. Я все способен простить, кроме предательства.