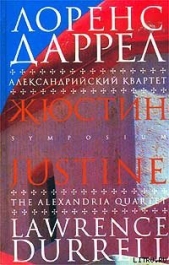Бальтазар
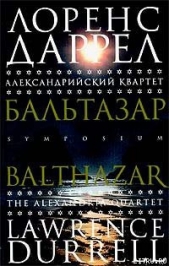
Бальтазар читать книгу онлайн
Дипломат, учитель, британский пресс-атташе и шпион в Александрии Египетской, старший брат писателя-анималиста Джеральда Даррела, Лоренс Даррел (1912-1990) стал всемирно известен после выхода в свет «Александрийского квартета», разделившего англоязычную критику на два лагеря: первые прочили автору славу нового Пруста, вторые видели в ней литературного шарлатана. Второй роман квартета — «Бальтазар» (1958) только подлил масла в огонь, разрушив у читателей и критиков впечатление, что они что-то поняли в «Жюстин». Романтическо-любовная история, описанная в «Жюстин», в «Бальтазаре» вдруг обнажила свои детективные и политические пружины, высветив совершенно иной смысл поведения ее героев.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как его занесло на мой остров — по-прежнему оставалось загадкой. Спохватившись, он улыбнулся и указал рукой на стайку светляков посреди пустынной обычно бухты:
«Корабль задержится на пару часов, поломка в двигателе. Один из Нессимовых. Капитаном на нем Хасим Коли, старый мой приятель; может, помнишь его? Нет? Ну и ладно. Я примерно представлял себе из твоих посланий, где ты живешь; но высадиться вот так, прямо у тебя на пороге, скажу я тебе!» Сколь сладостно было вновь услышать его смех.
Однако я уже почти не слушал, ибо его слова всколыхнули во мне непреодолимое желание поскорее окунуться в Комментарий, заново пересмотреть не книгу, нет (какое мне до нее дело, если ей не суждено быть даже опубликованной), — но саму структуру видения, точку зрения на Город и его обитателей. Ибо личная моя Александрия стала для меня в одиночестве моем едва ли не единственной дорогой к себе, едва ли не alter ego. Чувства переполняли меня, я не знал, что сказать. «Останься с нами, Бальтазар, — выговорил я, — хоть ненадолго…»
«Мы отплываем через два часа, — сказал он и, положив ладонь на лежащую перед ним пачку бумаги, нерешительно добавил: — Это может оказаться неплохим галлюциногеном».
«Прекрасно, — сказал я. — Большего мне и не нужно».
«Мы до сих пор живые люди, — повторил он, — что бы ты ни пытался из нас сотворить, я говорю о тех, кто еще жив. Мелисса, Персуорден — они уже ничего не скажут, они мертвы. По крайней мере, так принято считать».
«Так принято считать. Самые остроумные реплики всегда приходят из-под гробовой доски».
Мы сели и стали говорить о прошлом, весьма натянуто, к слову сказать. Он уже успел поужинать на корабле, а мне нечего было ему предложить, кроме стакана хорошего местного вина, — он сидел и медленно потягивал вино из стакана. Потом он спросил о Мелиссиной дочери, и я провел его к дому под сплетенными ветвями олеандра, туда, откуда мы оба смогли заглянуть в большую комнату, где горел в камине огонь и девочка спала, красивая и очень серьезная, и сосала во сне палец. Бальтазар смотрел на нее, чуть дыша, и его темный безжалостный взгляд смягчился. «Когда-нибудь, — сказал он тихо, — Нессим захочет ее видеть. Очень скоро, заметь. Он уже начал о ней говорить, интересоваться. С приближением старости он почувствует необходимость на кого-нибудь опереться — на нее. Запомни мои слова». И он процитировал по-гречески: «Сперва молодые, как виноградные лозы, карабкаются вверх по иссохшим подпоркам, по тем, кто старше, и прикосновения их осторожны и мягки; затем старики карабкаются вниз по прекрасным молодым телам, что не дают им упасть до времени, — каждый к своей смерти». Я молчал. Дышала комната — не мы.
«Тебе здесь одиноко», — сказал Бальтазар.
«Я искал одиночества, я им наслаждаюсь».
«Да, я тебе завидую. Нет, правда».
Затем он заметил неоконченный портрет Жюстин, подаренный мне Клеа в прошлой жизни.
«Тот самый портрет, — сказал он. — Прерванный поцелуем. Как хорошо увидеть его снова — как хорошо! — Он улыбнулся. — Похоже на любимую музыкальную фразу, издавна знакомую, — она дарует одно и то же наслаждение, всегда одно и то же, безошибочно». Я ничего не ответил. Не решился.
Он обернулся ко мне. «А Клеа?» — спросил он наконец голосом человека, решившего допросить эхо. Я сказал: «Я ничего не слышал о ней уже года два. Может, больше. Время здесь не идет в расчет. Надеюсь, она вышла замуж, уехала в другую страну, у нее дети, репутация живописца и все, чего ей только можно было бы пожелать».
Он удивленно посмотрел на меня и покачал головой. «Нет», — сказал он, и ни слова больше.
Было уже далеко за полночь, когда из темной оливковой рощи его окликнул матрос. Я спустился с ним вместе на пляж, мне было грустно, что он уезжает так скоро. У кромки воды его ждала шлюпка, на веслах сидел матрос. Он что-то сказал по-арабски.
Весеннее море, за день нагретое солнцем, было соблазнительно теплым, и когда Бальтазар шагнул в лодку, мне вдруг захотелось сплавать, проводить его до корабля, стоявшего на якоре менее чем в двухстах ярдах от берега. Я подплыл к самому борту и, чуть шевеля руками и ногами, смотрел, как он карабкается по лееру вверх и как поднимают шлюпку. «Тебя затянет винтом, — сказал он сверху. — Плыви, пока не запустили двигатели». — «Сейчас». — «Постой — пока ты не уплыл. — Он нырнул в каюту, вернулся и бросил что-то в воду неподалеку от меня — с мягким всплеском. — Роза из Александрии, — сказал он, — из Города, готового подарить своим любовникам все, кроме счастья. — Он хохотнул. — Отдай девочке».
«Бальтазар, до свидания!»
«Пиши — если хватит смелости!»
Пойманный, подобно пауку, в путаницу бортовых огней, я повернул туда, где переливались между темным берегом и мной желтые озера света. Я помахал ему рукой. Он махнул в ответ.
Я зажал драгоценную розу в зубах и по-собачьи выплыл к берегу, туда, где лежала одежда. Пока я плыл, я разговаривал сам с собой.
Дома на столе в лужице желтого света лампы лежал объемистый подстрочный Комментарий к «Жюстин» — я решил не менять названия. Текст был исписан весь — на полях, между строчками, поперек — вопросами и ответами, разноцветными чернилами и даже на машинке. На мгновение книга эта показалась мне символом реальности, общей для нас для всех: палимпсест, где каждый оставил свой след и свой почерк, слой за слоем.
Должен ли я теперь учиться видеть заново, чтобы приучить себя к истинам, открытым мне Бальтазаром? Невозможно описать чувство, с которым я читал его ремарки — порой столь подробные, порой же отрывистые, как отрубленные, — те, например, что он поместил отдельно, озаглавив: «Некоторые ошибки и недоразумения», там он написал хладнокровно: «Номер 4. Что Жюстин „любила“ тебя. Если она кого и „любила“, то Персуордена. Что это значит? Ей пришлось использовать тебя для отвода глаз, в качестве мишени для ревности Нессима, за которым она как-никак была замужем. Персуорден же ни в грош ее не ставил — высшая логика любви!»
И вновь я увидел Город, зеркальную поверхность зеленого озера и изломанные линии каменных чресел у границы пустыни. Политика любви, интриги страсти, добро и зло, каприз и добродетель, любовь и убийство двигались тихо и скрытно в темных лабиринтах александрийских улиц и площадей, борделей и гостиных — кишели, подобно вселенскому съезду угрей в слизистом иле заговоров и контрзаговоров.
Уже занималось утро, когда я отодвинул в сторону заворожившую меня кипу бумаги, Комментарий к настоящей моей (внутренней) жизни, и, как запойный пьяница, повалился на кровать с больной головой, а внутри близким эхом звучал, не умолкая, Город, единственный в мире Город, где встретились и дали плод самые далекие обычаи и расы, перекресток тайных линий судьбы. На границе яви и сна я все еще слышал суховатый голос моего старого друга, повторявший: «Что ты хочешь узнать… что еще ты хочешь узнать?» — «Я должен знать все, чтобы освободиться наконец от власти Города», — ответил я уже во сне.
«Когда сорвешь цветок, ветка вернется на прежнее место. Не так с цветами сердца», — сказала однажды Бальтазару Клеа.
Вот так, медленно, неохотно, я вынужден был вернуться к исходной точке, как человек, которому в самом конце захватывающего дух путешествия сообщают, что он просто ходил во сне. «Истина, — сказал мне однажды Бальтазар, сморкаясь в старый теннисный носок. — Ничто не начинает со временем так сильно противоречить само себе, как истина».
И Персуорден, совершенно по другому поводу — и тоже запомнилось надолго: «Если бы вещи всегда были тем, чем они кажутся, как обеднело бы человеческое воображение».
Когда и как, да и отделаюсь ли я вообще когда-нибудь от этой скуки среди городов — море, пустыня, минарет, песок, море?
Нет, я должен холодно и трезво записывать все это черным по белому, пока не наступит время и не заглохнет в отдалении ее голос и память о ней. Я знаю: тот ключ, что я пытаюсь повернуть, — во мне.