Кнут
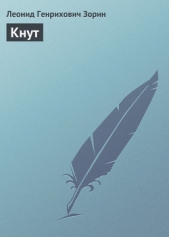
Кнут читать книгу онлайн
Провинциал по фамилии Подколзин приезжает в Москву, подрабатывает в газете и страшно хочет славы. Девушка от него ушла, известность ему не светит. И вот однажды Подколзин поплакался по этому поводу своему приятелю. Остроумный приятель затеял эксперимент: он заставил Подколзина спрятаться в квартирке, а потом стал распускать по столице слух: мол, есть такой человек, который написал великий роман «Кнут», но издавать его не хочет. Не прошло и пары недель, как о «Кнуте» заговорила вся Москва...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Урчащий баритон подавлял всякую волю к сопротивлению.
— Ты — Вельзевул… — прошептал Подколзин.
— Не надо мне льстить, — отмахнулся Дьяков. — Теперь иди. И сиди взаперти. Не вздумай разгуливать по Разгуляю.
На пороге Подколзин остановился.
— Послушай, — пробормотал он смущенно, — ты это серьезно?
— А ты усомнился? — оскалился Дьяков. — Нет, шутки кончились. Начинается твоя новая жизнь. Тебе придется ей соответствовать. Быть на уровне своих же потребностей. Мужайся, Подколзин. Настал момент истины.
— Мне можно звонить тебе? — спросил Подколзин, с трудом узнавая собственный голос.
— Нельзя. Я сам тебе позвоню.
Стоя у окна, Дьяков видел, как Подколзин, приподняв воротник, бредет по Яузскому бульвару. Шаг его был коротким и робким, словно у старого старика.
«Кролик-то плох», — подумал Дьяков, возвращаясь к початому стаканчику.
Он мысленно наметил программу на предстоящие два часа. Добить недопитую бутылку, затем — незаконченную статейку. И — неизменный маршрут перед сном — прогулка до Покровских Ворот. Погода выдалась не из лучших, но надо соблюдать ритуал. Самые точные соображения приходят к нему как раз тогда, когда он, не торопясь, шагает от Яузского к Покровским Воротам.
2
Вставайте, мой генерал, вставайте, так хорошо быть генералом, вас ждут великие дела. Вставайте и не теряйте времени, мы все глядим в Наполеоны. Зима стремительно издыхает. В небе восходит солнце апреля, подобное солнцу Аустерлица. Вот она, точка пересечения, когда слова «хотеть» и «мочь» сливаются в единое слово, в единый глагол, что жжет ваше сердце, а коли решитесь, мой генерал, будет он жечь и сердца людей.
В сторону, в сторону ложную скромность, не говорите, что вы капрал, прапорщик, неизвестный солдат. Вы — генерал, мой генерал, и эта постная добродетель тайных завистников и неудачников вам ни к чему, забудьте ее. Прочь преклонение перед фактом и примирение с гнусной действительностью. Вспомните вашего коллегу: «Мой левый фланг прорван, мой правый фланг смят, я перехожу в наступление». Ребята, не Москва ль пред нами? Сорок веков с вершин пирамид и город Вельск взирают на вас, вы еще молоды, генерал, вперед и завоюем столицу.
Не менее четырех недель Яков Дьяков провел в неустанном движении. В редакциях, в театрах, в издательствах, в урочищах вольного эфира, на вернисажах, на презентациях, во многих местах элитарных скоплений, которыми так богата Москва, демонски вспархивал черный клок на бледном челе, зеленым пламенем опасно отсвечивали зрачки, обозначивался горбатый профиль. Казалось, что Дьяков нацелен в мишень. То там, то здесь, в равномерном гуле вдруг выбивался на поверхность и странным образом все заглушал урчащий, захлебывающийся баритон.
И всюду — в толпе, в небольшой компании, кучке, стайке, а то и в беседе с глазу на глаз, невзначай, неожиданно, звучало незнакомое имя, раз от разу стремительно обретавшее все большую привычность и значимость. В обрядовый круговорот общения, незнамо откуда, вдруг донеслось эхо колокольного звона: Под-кол-зин… Подколзин? И вновь — Подколзин!
Сначала вскользь, а потом все подробней, Дьяков рассказывал о труде, рожденном в келейной уединенности. При этом глаза его озарялись смиренным молитвенным свечением и дрожь плохо спрятанного волнения вибрировала в его баритоне.
Все те, кто знал Якова Дьякова (а кто же не знал Якова Дьякова?), законно считали его человеком крайне критического ума, дроздом-пересмешником, иронистом, многие безотчетно побаивались — знали, для этого удальца нет ни святынь, ни авторитетов. Понятно, такое преображение богохульника в неофита и ошарашивало, и пугало, и настраивало на особый лад. Уж если Дьякова так проняло, значит, дело серьезно — имя Подколзина сперва угнездилось в подсознании, дальше выбралось из подполья памяти на поверхность, а там — и помимо Дьякова — стало привычно слетать с языка.
И почти все упоминавшие, произносившие это имя, воспроизводили и повторяли, разумеется, совершенно невольно, все ту же дьяковскую интонацию — загадочную, многозначительную, с придыханием, с оттенком таинственности и с чувством некого причащения к чему-то высшему, к снежному пику, недоступному рядовым альпинистам.
И впрямь, история завораживала. Неведомый никому репортер, которого, в общем, никто не знал, взгляда не бросил бы, встретив на улице, — не то человек, не то предмет — внезапно к себе приковал внимание. В ночной тишине, долгие годы, чураясь обольстительных люстр, далекий от суетной толчеи, свободный от ее искушений, обрекший себя на схиму, на постриг, подвижнически творил он свой труд, в котором развеял все заблуждения, всему отвел надлежащее место, все объяснил и растолковал. Не то философская теория, не то система, не то трактат, не то публицистический залп, дышащий страстью, подпертый мудростью, нечто апостольское по мощи. Обжигало, тревожило, будоражило уже само название «Кнут», короткое, хлесткое, как удар.
Сравнительно быстро все уже знали, что создана эпохальная книга — одновременно итог и открытие. Узнали и то, что странный автор категорически отказывается печатать свое произведение. Только немногие, очень немногие, самые достойные люди допущены к драгоценной рукописи, попасть в их число — чрезвычайная честь.
Тем не менее, в скором времени выяснилось, что круг достойных и посвященных не столь узок, как можно было подумать. Таких людей оказалось немало. Своей избранности они не подчеркивали — со скромным изяществом, легким намеком, как бы нехотя давали понять, что необнародованный манускрипт ими прочтен и даже изучен. Как он попал к ним — это секрет, ибо нарушена воля автора, они умеют хранить секреты. Разумеется, попадались и те, кто склонен все подвергать сомнению, однако их было раз-два и обчелся. К тому же и они признавали оригинальность и самобытность, лишь просили обуздать эйфорию. Никто из них не мог сформулировать достаточно веских возражений. Сырые расплывчатые реплики, невнятные общие места, не имевшие никакого успеха.
Впрочем, бессвязностью и туманностью отличались и ярые восхвалители — все панегирики оставались в неподконтрольной сфере эмоций. Должно быть, поэтому в их речах, возможно, даже против желания, звенел эзотерический пафос, которому не нужны аргументы. Ясное дело, что оппоненты чувствовали себя ущемленными. В словесных сшибках все время звучала отчетливая нервная нота. Конфликты иной раз возникали, что называется, на ровном месте. Характерный диалог состоялся меж культурологом Годоваловым и ветераном-шестидесятником неукротимым Маркашовым.
— Если бы вы заглянули в «Кнут», вы бы смотрелись поосновательней, — небрежно замечал Годовалов.
— А вы так уверены, что я не заглядывал? — запальчиво спрашивал шестидесятник. — Как это похоже на вас!
— Да я и не думал вас обидеть, — снисходительно говорил культуролог.
— Возможно. У вас это получается на уровне, так сказать, инстинкта, — с надсадой произносил Маркашов.
— Какое болезненное самолюбие!
— Дело не в моем самолюбии, — кипел разгневанный Маркашов, — а в вашем вызывающем тоне. Однако вам следовало бы понять и то, что истинные читатели — не из премьерных завсегдатаев.
— Помилуйте, — бросал Годовалов, гася сострадательную улыбку, но все же давая ее заметить, — уж лет пятнадцать как андеграунд вышел из моды… но рад за вас, если вы читали Подколзина.
— Читал, читал, представьте себе. Если бы я захотел применить созвучную вам терминологию, я бы сказал, что я сподобился, что был допущен…
— Вы — неврастеник, — снисходительно вздыхал Годовалов.
Однако подобные столкновения, в общем, не делали погоды. Тем более что и они способствовали все более крепнущему вниманию к Подколзину и его творению.
В эти насыщенные дни в одном из музейных залов столицы состоялся концерт Олега Арфеева, собравший отменную аудиторию.
У Арфеева была репутация не только актера-интеллигента, что само по себе немалая ценность, но и актера-интеллектуала, всегда пребывающего в поиске. Он повторял при любой возможности, что артист должен быть самодостаточен, подлинно мыслящим тростником, сперва — личностью, а уж потом — лицедеем. Он признавался своим конфидентам, что театральный репертуар с его скольжением по верхам не позволяет ему самовыразиться. Отдушину обретал в общении с великими мастерами словесности, по большей части уже почившими. Поклонники его называли неутомимым просветителем, безукоризненным интерпретатором и собеседником титанов. Этим последним определением Арфеев особенно дорожил. Торжественный свет далеких звезд бросал на него заслуженный отблеск.
























